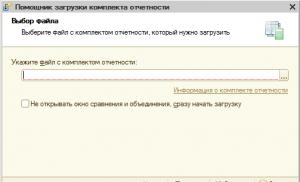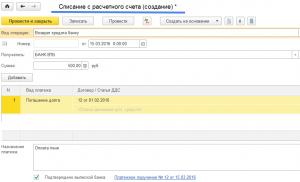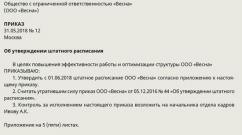Распутин и царская семья. Царская семья и Распутин (1907–1913)
Об этом человеке говорят много противоречивого. Так кто же был Григорий Распутин? Старец, шарлатан, пророк или просто распутник? Вот некоторые интересные факты из биографии Распутина.
Родился он в селе Покровском предположительно в 1869 году в семье ямщика. Точно год рождения не известен, а сам он любил завышать свой возраст, чтобы больше походить на старца. В его селе о нем не было почти никаких сведений. В детстве он был хилым ребенком и очень много болел. Возможно, именно это побудило его в возрасте 18 лет начать странствовать по святым местам. Он посещал монастыри, но монашеский обет не принял. Поэтому трудно сказать, была ли его вера истинной или просто он был хорошим актером. Возвратившись в Покровское, Григорий женился, у него родились трое детей. Но все эти годы он продолжал пешком ходить по святым местам и даже совершил паломничество в монастырь Атос в Греции.
В это время Распутин провозгласил себя святым, обладающим чудодейственной силой. Он попросил церковников, чтобы его записали под новой фамилией - Распутин-Новый. Объяснял свое желание тем, что в его деревне полно Распутиных и их будут с ним путать. Григорий всем кому мог рассказывал о своем даре исцелять. Понадобилось несколько лет, чтобы молва о нем разлетелась по всей России. Пациенты начали приезжать издалека. Надо сказать, что Распутин был абсолютно неграмотным, но, по всей видимости, обладал даром убеждения или даже гипноза. Люди верили в его помощь.
О том, как Григорий попал в Петербург, есть две версии. По первой, молва о нем дошла до столичной знати, и они рассказали о Распутине Николаю 2. По второй версии, принадлежащей самому Распутину, однажды ему пришло видение Богоматери. Она поведала Григорию, что царевич Алексей, сын Николая 2, серьёзно болен и нуждается в помощи. После этого Распутин двинулся в Санкт-Петербург. Был 1905 год. Николай 2 долгое время отказывался от его услуг, но спустя два года Распутина позвали во дворец, когда у царевича был очередной сильный приступ.
И с этого момента влияние Григория Распутина на царскую семью стало расти, он был прочно связан с царской семьей, поскольку начал заниматься лечением царского сына. Целитель начал обрастать связями и авторитетом, к нему на приемы уже спешила вся российская элита, за глаза называя его не иначе, как «Гришка Распутин». Он обладал большими гипнотическими способностями, с помощью которых соблазнил многих княгинь.
Распутин и женщины - это отдельная история. Они его очень любили. Когда его обвиняли в прелюбодействе, он говорил, что ничего специально для этого не делает.
В быту Распутин был аскетом. В его жилище почти не было мебели, поэтому его свидания проходили в спартанской обстановке. Он не любил долгие встречи и старался побыстрее отделаться от гостьи. Интересно то, что жена Распутина очень гордилась тем, что ее муж так популярен у высокопоставленных особ.
Царица была очень набожная, и все-таки Распутин сумел завоевать ее доверие. Он внушил ей, что только она одна может спасти православную Россию. Закончилось тем, что царица не могла без Распутина решить ни одного вопроса, будь то государственный или просто семейный.
В свете распространились сплетни об их отношениях. Вскоре Николай 2 стал не очень рад частому появлению Распутина в собственном дворце, т.к. по Петербургу стали ходить слухи о его непристойном поведении. Он часто напивался и дебоширил, что наводило ужас на жителей Петербурга.
Терпение императорского окружения лопнуло, и возник заговор против Распутина. 30 декабря 1916 года Григорий Распутин был приглашен во дворец, где ему подали еду, напичканную большим количеством цианистого калия. Яд на него не подействовал, тогда в целителя выстрелили. Григорий попытался убежать, но в него вновь выстрелили в упор. Распутин упал, его связали, сунули в мешок и утопили в проруби. Вскрытие показало, что даже в воде Распутин пытался освободиться и выпутаться из мешка, но потерпел неудачу.
Царица Александра Федоровна тяжело переживала убийство Распутина, горевала о нем, как о родном человеке. Покойного хотели похоронить в селе Покровском, но побоялись отправлять его тело через всю страну (могли вспыхнуть волнения) и предали земле в Царском Селе. После Февральской революции могила Распутина была найдена, и Керенский велел уничтожить труп, что и было сделано ночью 11 марта в топке парового котла.
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
1
В замкнутой тихости Царского Села Николай провёл шестьдесят шесть дней подле Аликс, своим присутствием смягчая ей безмерное горе потери. (К счастью, зимнее затишье на фронте позволяло такую отлучку из Ставки).
От тревожной, мятущейся, убитой горем Аликс передалось и Николаю ощущение наступившей полосы бед и несчастий, которых сразу не изживёшь.
И ещё одна беда – что смерть несчастного легла чертой размолвки между ним и Аликс. Они и всегда по-разному видели Григория, его суть, значение, степень его мудрости, но щадя чувство и веру Аликс, Николай никогда не настаивал на своём. А теперь – не могла Аликс отпустить мужу, что он не предал убийц суду.
Когда 17 декабря в Ставке во время военного совета с главнокомандующими о плане кампании Семнадцатого года Государю подали телеграмму об исчезновении и возможной смерти Распутина – он, грешным образом, внутренне даже скорей облегчился: столько накопилось вокруг злобы, уже устал он слушать эту череду предупреждений, разоблачений, сплетен, – и вдруг объект общественной ненависти сам собой фаталистически исчезал, без того, чтобы Государю надо было предпринять какое-либо усилие или мучительный разговор с Аликс. Всё отпадало – само собой.
Простодушно же он настроился! Не представлял он, что почти тотчас ему придётся покидать и тот военный совет, столь долго устроявшийся, и Ставку – и мчаться к Аликс на целых два месяца – и заслужить град упрёков: что это – он своим равнодушием к судьбе избавителя-старца довёл до самой возможности такого убийства, а затем – и не желает наказывать убийц.
Да он и сам через полдня уже стыдился, что мог испытать облегчение от смерти человека.
И действительно: убийство было как убийство, долгая травля и злые языки перешли в яд и пистолетные выстрелы, – и не было никаких смягчающих обстоятельств, почему бы не судить. Но то, что жало укола выдвинулось из самой близи, из великокняжеской среды и даже от Дмитрия, мягкого, нежного, взращённого почти как сын, любимого и балуемого (берёг его при Ставке, не посылал в полк), – обессиливало Государя. Чем невыразимей и родственней была обида – тем бессильней он был ответить.
Кто из монархов так попадал? Лишь отдалённый, немой, незримый православный народ был ему опорой. А все сферы ближние – образованные и безбожные – были враждебны, и даже среди государственных людей и слуг правительства проявлялось так мало рачительных о деле и честных.
И разительна была враждебность внутри самой династии: все ненавидели Аликс. Николаша с сестрами-черногорками – уже давно. Но – и Мама была против неё всегда. Но – и Елизавета, родная сестра Аликс. И уж конечно лютеранка тётя Михен не прощала Аликс ревностного православия, а по болезни наследника так и готовилась, чтобы престол захватили её сыновья, или Кирилл или Борис. И затем проявившаяся этой осенью и зимой вереница разоблачителей из великих князей и княгинь, с редкой наглостью наставляющих императорскую чету, как им быть, – и даже Сандро, тесный друг юности когда-то. Сандро договорился до того, что само правительство приближает революцию, а нужно правительство, угодное Думе. Что будто все классы враждебны политике трона, и народ верит клеветам, а царская чета не имеет права увлекать и своих родственников в пропасть. Вторил ему и его брат Георгий: если не будет создано правительство, ответственное перед Думой, мы все погибли. О себе и думают великие князья. Когда им плохо, они уезжают в Биарриц, в Канны. Император лишён такой возможности.
Теперь стыдно было перед Россией, что руки государевых родственников обагрены кровью мужика. Но и так душило круговое династическое осуждение, что в груди не изыскивалось твёрдости – ответить судебным ударом. И Мама просила – не возбуждать следствия. Николай не мог найти в себе безжалостной воли – преследовать их сурово по закону. Да при сложившихся сплетнях всякое нормальное судебное действие могло быть истолковано как личная месть. И всего лишь, что Николай решился сделать: определил ссылку Юсупову в его имение, Дмитрию – в Персию, а Пуришкевичу – даже ничего и не осталось, уехал со своим санитарным поездом на фронт. И даже эта мягкая мера была встречена бунтом династии, враждебным коллективным письмом всей великокняжеской большой семьи, а Сандро приехал и прямо кричал на Государя, чтобы дело об убийстве прекратить.
Они – совсем забылись. Они не считали уже себя подвластными ни государственному, ни Божьему суду!
А тут – дышала гневом Аликс, что Николай преступно мягок к убийцам и этой слабостью погубит и царство и семью.
И легла и протянулась на все эти два месяца в Царском – небывалая прежде, длительная тягость между ним и Аликс, не уходящая обида. Уж Николай старался в чём только можно уступить, угодить. Разрешил все особые хлопоты с телом убитого, охрану, захоронение тут в Царском, на аниной земле. И ото всех прячась, будто затравленные изгои в этой стране, а не цари её, – хоронили Распутина ночью, при факелах, и сам Николай с Протопоповым, с Воейковым нёс гроб. И всё равно – не смягчалась Аликс до конца, так и осталось её сердце с тяжестью. (Одинокими прогулками она ездила теперь тосковать и молиться на могиле. А злые люди подсмотрели и в первые же дни осквернили могилу. И пришлось поставить там постоянную стражу – пока восставится на том месте и закроется часовня).
Так страстны и настойчивы были от Аликс упрёки в слабости, царской неумелости, – потряслось доверие Николая к самому себе. (А его-то и никогда не было прочного от юности, во всём он считал себя неудачником. И даже поездки по войскам, которые так любил, – убедился он: приносят тем войскам боевую неудачу). И даже маленький Алексей, ещё совсем не мешавшийся во взрослые дела, воскликнул в горе: «Неужели, папа, ты их не накажешь? Ведь убийцу Столыпина повесили!» И в самом деле: почему уж он был так слаб? Почему не мог он набраться воли и решимости – отца своего? Своего прадеда?
После убийства Григория тем более не мог Государь ни в чём идти на уступки своим противникам и обществу: подумали бы, что вот – освободился из-под влияния. Или: вот, боится тоже быть убитым.
Под упрёками жены и в собственном образумлении Николай в эти тяжкие зимние месяцы решился на крутые шаги. Да, вот теперь он будет твёрд и настоит на исполнении своей воли! Снял министра юстиции Макарова, которого давно не любила Аликс (и равнодушно-нерасторопного при убийстве Распутина), и председателя министров Трепова, против которого она с самого начала очень возражала, что он – жёсткий и чужой. И назначил премьером – милейшего старого князя Голицына, так хорошо помогавшего Аликс по делам военнопленных. И не дал в обиду Протопопова. Затем, под Новый год, встряхнул Государственный Совет, сменил часть назначаемых членов на более надёжных, а в председатели им – Щегловитова. (Даже в этом гнездилище умудрённых почётных сановников Государь потерял большинство и не мог влиять: не только выборные члены, но и назначаемые всё разорительней играли либеральную игру и здесь). Вообще намерился он наконец перейти к решительному правлению, пойти наперекор общественному мнению, во что бы это ни обошлось. Даже нарочно выбирать в министры лиц, которых так называемое общественное мнение ненавидит, – и показать, что Россия отлично примет эти назначения.
Самое было и время на что-то решаться. В декабре неистовствовали съезды за съездами – земский, городской, даже дворянский, соревнуясь, чьё поношение правительства и царской власти громче. И прежний любимый государев министр Николай Маклаков, чьи доклады всегда были для Государя радостью, а работа с ним воодушевительной, а уволил он его под давлением Николаши, – теперь написал всеподданнейше, что эти съезды и всё улюлюканье печати надо правильно понимать, что это начался прямой штурм власти. И Маклаков же представил записку от верных людей, как спасти государство, а Щегловитов – другую такую же. Не дремали верные, что ж поддался душою Государь?
А тут ещё со многих сторон, и от дяди Павла, поступали сведения, что повсюду в столице и даже в гвардии открыто говорят о подготовке государственного переворота. И в январе, в начале февраля зрела у Государя мысль – нанести опережающий удар: вернуть на места своих лучших твёрдых министров и распустить Думу теперь же, и не собирать её до конца 1917 года, когда будет выбираться новая Пятая. И уже поручил он Маклакову – составить грозный манифест о роспуске Думы. И уже Маклаков составил и подал.
Но тут же, как всегда, обессиливающие сомнения одолели Государя: а нужно ли обострять? А нужно ли рисковать взрывом? А не лучше ли – мирно, как оно само течёт, не обращая особого внимания на забияк?
О перевороте? Так это же всё болтовня, во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию. И Армия – беспредельно верна своему Государю. Истинной опасности нет – и зачем же вызывать новый раскол и обиды? Среди имён заговорщиков Департамент полиции подавал таких крупных, как Гучков, Львов, Челноков. Государь начертал: общественных деятелей, да ещё во время войны, трогать нельзя.
Никогда ещё вокруг царской семьи не чувствовалось такое ноющее одиночество, как после этого злосчастного убийства. Преданные родственниками и оклеветанные обществом, они сохраняли только нескольких близких министров – но и их тоже, тем более, ненавидело общество. И верные тесные друзья, как флигель-адъютант Саблин, тоже оставались наперечёт. С ними и проводили святки, зимние вечера и воскресенья на малолюдных обедах, чаях, то приглашали во дворец маленький оркестр, а то кинематограф. Да ещё оставались неповторимо-разнообразные прогулки в окрестностях Царского, даже новинка: на снеговых моторах. А по вечерам Николай много читал семье вслух, решал с детьми головоломки. Да с февраля стали дети прибаливать.
Аликс же эти два месяца почти сплошь пролежала, сама как покойница. Она почти ничего не усвоила, не знала, кроме смерти Григория, – и этой своей верностью горю каждый день как бы ещё и ещё упрекала Николая.
Семейная атмосфера была любимая атмосфера Николая, и так, нетревожимо замкнутый, он мог бы прожить и год, и два. Не пропустил ни одной литургии, говел, причащался. Однако, по соседству теперь со столицей, не мог он в эти девять недель уклониться от дел государственного управления. В одну из этих недель открылась в Петрограде конференция союзников, у Николая не было желания появляться в её суете, и от России старшим там действовал генерал Гурко, зато изрядно надоедал Государю долготою и резкостью своих докладов. (Но пришлось принять в Царском делегатов конференции, – и так сжался Николай, так мучился – чтоб ещё они не стали ему давать советов по внутренней политике). Ещё каждый будний день Государь принимал у себя двух-трёх-четырёх министров или видных деятелей, с большим удовольствием – симпатичных ему.
Но оттого ли, что нота погребальности не утихала в их доме все эти недели, уж слишком затянулись головные боли и рыданья по убитому, где-то есть их и предел для всякого мужчины, – наконец стало потягивать Николая к немудрёной непринуждённой жизни в Ставке, к тому ж и без министерских докладов. На днях приезжал в Царское из Гатчины Михаил (жена его, дочь присяжного поверенного, дважды уже разведенная, не допускалась и не признавалась) и говорил, что в армии растёт недовольство: отчего Государь так долго отсутствует из Ставки. Где-то появился даже и слух, что на Верховное Главнокомандование снова вступит Николаша.
Да неужели? Вздор какой, но опасный вздор. Действительно, пора ехать. (Тут ещё так неудачно получилось, что и прошлое его пребывание в Ставке было коротким: тезоименитство своё он проводил с семьёю в Царском, вернулся в Ставку лишь 7 декабря, а 17-го уже был вызван смертью Распутина, и вот до сих пор).
Но – совсем не легко было отпроситься у Аликс. Ей невместимо было понять, как он может её покинуть в таком горе и когда могут последовать новые покушения. Согласились, что он поедет всего на неделю и даже меньше – чтобы к несчастливой для Романовых первомартовской годовщине, дню убийства деда, вернуться в Царское и быть снова вместе. И наследника в этот раз она не отпустила с отцом, что-то он кашлял.
А Николай утешался тем, что оставляет государыню под защитой Протопопова. Протопопов заверил, что все дела устроены, и в столице ничто не грозит, и Государь спокойно может ехать.
Когда уже решён был отъезд – вдруг спала и эта тяжесть упрёка, разделявшая их два месяца. Аликс протеплела, прояснела, живо вникала в его вопросы, напоминала, чтоб он не забыл, кого в армии надо наградить, а кого заменить, – и особенно недоверчиво и неприязненно относилась она к возврату Алексеева в Ставку после долгой болезни: зачем? не надо бы. Он – гучковский человек, не надёжный. Наградить бы его – и пусть почётно отдыхает.
Но Николай любил своего работящего, незаносчивого старика и не находил сил отставить его. Да этого бы никак и не выговорить, неудобно. Связан с Гучковым? Так и Гурко, на той же должности, сейчас в Петрограде, по донесению Протопопова, встречался с Гучковым. И был связан с Думой. (И вот, десять дней назад, на докладе в Царском, налетел вихрем, голос как иерихонская труба: «Государь, вы губите и семью и себя! что вы себе готовите? чернь церемониться не станет, отставьте Протопопова!», – такого бешеного не бывало при Николае рядом, он уж раскаивался, что согласился взять его).
Вчера после полудня Николай ехал на станцию – как всегда под звон Фёдоровского собора, они оба с Аликс вдохновлялись колокольным звоном. По пути заехали к Знаменью приложиться.
Как раз прояснилось – и яркое морозное радостное солнце обещало добрый исход всему.
А в купе Николая ждала приятная неожиданность (впрочем, и обычный меж ними приём): конверт от Аликс, положенный на столик при дорожных принадлежностях. Жадно стал читать, по-английски:
«Мой драгоценный! С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного без нашего милого нежного Бэби. Бог послал тебе воистину страшно тяжёлый крест. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя – так Он ещё ближе к нам.
Кажется, дела поправляются. Только, дорогой, будь твёрд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту, – дай им теперь почувствовать порой твой кулак. Они сами просят об этом, сколь многие недавно говорили мне: «нам нужен кнут!». Это странно, но такова славянская натура: величайшая твёрдость, жестокость даже, и – горячая любовь. Они должны научиться бояться тебя – любви одной мало. Надо играть поводами: ослабить их, подтянуть…»
Кнут? – это ужасно. Этого нельзя представить, ни выговорить. Ни замахнуться. Если этой ценой быть царём – то не надо и совсем.
Но быть твёрдым – да. Но показать властную руку – да, это необходимо, наконец.
«Надеюсь, ты очень скоро сможешь вернуться. Я знаю слишком хорошо, как «ревущие толпы» ведут себя, когда ты близко. Как раз теперь ты гораздо нужнее здесь, чем там. Так что вернись домой дней через десять. Твоя жена – твой оплот – неизменно на страже в тылу.
Ах, одиночество грядущих ночей – нет с тобой Солнышка и нет Солнечного Луча!»
Ах, дорогая! Сокровище моё!…
И как отлегло от сердца, что снова нет тучек меж нами. Как это подкрепляет душевно.
Как всегда в пути по железной дороге Николай с удовольствием читал, отдыхая и освежаясь, в этот раз по-французски – о галльской войне Юлия Цезаря, хотелось чего-нибудь вчуже от современной жизни.
Снаружи холодно было, да как-то не хотелось и двигаться, за всю дорогу не вышел из вагона нигде.
Николай замечал не раз: наше спокойствие или беспокойство зависят не от дальних, хотя бы и крупных событий, а от того, что происходит непосредственно с нами рядом. Если нет напряжённости в окружении, в ближайших часах и днях, то вот на душе и становится светло. После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании, читать и не иметь необходимости кого-то видеть, с кем-то разговаривать.
А уже поздно вечером перечитал любимый прелестный английский рассказ о Голубом Мальчике. И, как всегда, выступили слезы.
ДОКУМЕНТЫ – 1
Ея Величеству. Телеграмма.
Прибыл благополучно. Ясно, холодно, ветрено. Кашляю редко. Чувствую себя опять твёрдым, но очень одиноким. Мысленно всегда вместе. Тоскую ужасно.
Ники
Его Величеству
(по-английски)
Ну, вот – у Ольги и Алексея корь. Бэби кашляет сильно, и глаза болят. Они лежат в темноте. Мы едим в красной комнате. Представляю себе твоё ужасное одиночество без милого Бэби. Ему и Ольге грустно, что они не могут писать тебе, им нельзя утомлять глаза…Ах, любовь моя, как печально без тебя – как одиноко, как я жажду твоей любви, твоих поцелуев, бесценное сокровище моё, думаю о тебе без конца. Надевай же крестик иногда, если будут предстоять трудные решения, – он поможет тебе.
…Осыпаю тебя поцелуями. Навсегда
Излюбленным местом отдыха Царской Семьи был Крым. Туда Она не раз приглашали Своего Друга. В первый раз это произошло в ноябре 1911 г., вскоре после освящения нового Ливадийского Дворца. Государь, рассказывал Григорий Ефимович, водил его всюду, показывал каждую комнату. Затем они вышли на балкон, где долго любовались на море и небо.
Приезжал Г.Е. Распутин в Крым и впоследствии: в марте 1912 г., сентябре-октябре 1913 г. В последний раз он побывал там в мае 1914 г. Тогда же Царская Семья также в последний раз отдыхала в любимой Ею Ливадии.
Гостиницы в Ялте, в которых обычно останавливался Г.Е. Распутин. Предоставлено Станиславом Моисеевым (Ялта).
Г.Е. Распутин на вершине горы Ай-Петри близ Ялты, в Крыму. Фото М.Е. Головиной. Ноябрь 1911 г.
Имеется еще одна известная фотография Г.Е. Распутина, сделанная в Крыму. Благодаря недавней публикации нами воспоминаний М.Е. Головиной теперь известно, что она сделана ею на горе Ай-Петри (Святой Петр) по пути в Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь, основанный греками в IX в., со времен Императора Александра I пользовавшийся вниманием Русских Государей. Бывали там и Царственные Мученики.
Однако датировка снимка в мемуарах М.Е. Головиной (1913 г.) ошибочна, тем более, что, если учитывать последовательность событий в тех же воспоминаниях, то эта совместная поездка имела место вскоре после возвращения Г.Е. Распутина из паломничества в Святую Землю. Таким образом, верная датировка снимка - ноябрь 1911 г.
Ай-Петри.
Г.Е. Распутин с М.Е. Головиной (слева) и С.Л. Волынской (?). Гурзуф. 1911 г. Фото А.А. Вырубовой (?).
Не так давно исследователям жизни Г.Е. Распутина стала известна еще одна фотография старца, связанная с Крымом. На ней он запечатлен у известного фонтана «Ночь» работы немецкого архитектора Бергера. В 1898 г. его приобрел на Венской всемiрной выставке промышленник П.И. Губонин, установив его в центре Гурзуфского парка.
Фонтан «Ночь» в Гурзуфе.
Слева от Г.Е. Распутина на снимке - М.Е. Головина, справа, как полагают некоторые исследователи (Anastasiya Rahlis), - С.Л. Волынская. Не исключено, что фотографировала А.А. Вырубова. Из воспоминаний той же М.Е. Головиной мы знаем, что в ноябре 1911 г. Григория Ефимовича в поездке по Крыму вместе с ней сопровождала А.А. Вырубова.
Возможно, именно тогда (учитывая некоторые особенности облика старца) был сделан еще один крымский снимок: А.А. Вырубова с Г.Е. Распутиным и Т.А. Родзянко (атрибуция Anastasiya Rahlis). Если это так, то фотографировала, возможно, М.Е. Головина.
Г.Е. Распутин с А.А. Вырубовой (слева) и Т.А. Родзянко (?).Гурзуф. 1911 г. (?). Фото М.Е. Головиной (?).
Тамара Антоновна Родзянко (1881†14.3.1938), урожденная Новосильцева, дочь генерала, была замужем за Павлом Павловичем Родзянко (1990†1965), племянником председателя Государственной думы. Современники называли ее «музыкальной романической барышней». Одно время она жила в Ялте. (Возможно, именно там в один из приездов Г.Е. Распутина в Крым и сделан этот снимок.) Участвовавший в гражданской войне П.П. Родзянко, полковник русской и британской армий, сумел вместе с детьми (Тамарой и Павлом) выбраться в Англию. Его супруга осталась в Советской России. Жила в Куйбышеве (Самаре), где была арестована и расстреляна.
Дом А.А. Вырубовой в Царском Селе. Дореволюционный снимок.
Гораздо чаще, нежели в Александровском Дворце, Г.Е. Распутин встречался с Царской Семьей в небольшом домике А.А. Вырубовой (1884†1964), дочери главноуправляющего Собственной ЕИВ канцелярией А.С. Танеева, личной подруги Императрицы Александры Феодоровны и одной из самых преданных духовных дочерей старца.
Дом Анны Александровны находился буквально в нескольких шагах от Дворца, на углу улиц Церковной и Средней. В маленьком Анином домике Государыня встречалась не только с самим Григорием Ефимовичем, но и его ближайшими духовными друзьями, среди которых было немало молодых архиереев. Кроме уже упоминавшегося епископа Исидора (Колоколова), это были епископ Кронштадтский Мелхиседек (Паевский, 1878†1931) и епископ Горийский Антоний (Гиоргадзе, 1866†1918). Оба, так или иначе, были связаны с Грузией. Первого из Тифлиса привез митрополит Питирим (Окнов), второй был не только сам грузином по происхождению, но занимал там должность викарного епископа.
Оба знали Г.Е. Распутина давно, еще со времен его странствий. Епископ Мелхиседек, выпускник Казанской Духовной академии (1904), в 1905-1907 гг. был настоятелем Богоявленского Братского монастыря в Могилеве, в котором пребывала одна из особо чтимых Царственными Мучениками в последние годы Их земной жизни святынь - Могилевская Братская икона Божией Матери, перед которой, по свидетельству Государыни, Г.Е. Распутин «много лет тому назад во время своих странствий по России… молился».
Состоя 1914-1916 гг. ректором Тифлисской Духовной семинарии, он снискал горячую любовь воспитанников, несмотря на неприятности от гражданских властей, предоставив семинаристам возможность совершать богослужение на грузинском языке. 8 сентября 1916 г. архимандрита Мелхиседека в столичном Казанском соборе хиротонисали во епископа Кронштадтского, викария Петроградской епархии.
Владыка Мелхиседек (Паевский).
«Здесь сейчас, - сообщала Государыня Императору в письме 28 сентября 1916 г., - замечательный молодой, только что посвященный епископ Мельхиседек […] Когда он служит, то церковь бывает битком набита - очень “возвышенный” - (это будущий митрополит); вообрази, он долго был настоятелем Братского монастыря в Могилеве и боготворит и страшно чтит тамошний чудотворный образ Богоматери, который Мы с Тобой постоянно посещаем. […]
Мне в пятницу предстоит познакомиться с Мельхиседеком в ее [А.А. Вырубовой] доме, и Наш Друг будет там, - они говорят, что его беседа чудесна, она прекрасно действует, - он превосходно говорит и помогает душе на время подняться над земными печалями, но Я хочу, чтоб и Ты был здесь, чтоб пережить это вместе со Мной».
Через несколько дней Царица так изложила Свои впечатления от встречи: «так хорошо и спокойно побеседовали, такое мирное, гармоничное настроение!» В ноябре 1916 г. епископ Мелхиседек участвовал в закладке храма Преподобного Серафима Саровского при лазарете А.А. Вырубовой, где полтора месяца спустя будет погребено тело убиенного Царского Друга. Что до Царицы, то Она и после переворота продолжала интересоваться судьбой Владыки, о чем свидетельствуют ее письма из Тобольска А.А. Вырубовой.
При временщиках Преосвященный Мелхиседек был назначен епископом Ладожским, викарием Петроградской епархии. После большевицкого переворота его перевели в Белоруссию. С 1919 г. он епископ Минский и Туровский. 17 мая 1931 г. его вызвали в Москву, назначив членом Синода. Скончался Владыка в храме у престола, облачаясь перед службой.
Могила архиепископ Мелхиседека на Преображенском кладбище в Москве.
Епископ Антоний (Гиоградзе), происходивший из семьи простого псаломщика, в 1907 г. окончил Петербургскую Духовную академию и, видимо, уже с тех пор знал Григория Ефимовича. 15 января 1912 г. в Троицком соборе Александро-Невской Лавры его хиротонисали во епископа Горийского, викария Мцхетско-Карталинской епархии, по должности являвшимися помощниками Экзархов по управлению епархией. «…чарующее впечатление, - описывала Императрица в письме от 21 сентября 1916 г. Свои чувства от общения с Владыкой, - милая грузинская интонация в голосе, - он знает Нашего Друга дольше, нежели Мы…»
Фрагмент фотографии участников Собора Грузинской Православной Церкви 8-17 сентября 1917 г. Слева направо: викарный епископ Алавердский Пирр (Окропиридзе, 1874†1922), в сане митрополита зверски убитый в Алавердском монастыре; викарный епископ Гурийско-Мингрельский Леонид (Окроперидзе, 1860†1921), с 1918 г. Грузинский Католикос, скончался во время эпидемии холеры; епископ Полоцкий и Витебский Кирион (Садзаглишвили, 1855†1918), избранный на Соборе 1917 г. Католикосом, найден убитым в своей келлии в Марткопском монастыре; викарный епископ Горийский Антоний (Гиоргадзе).
После революции епископ Антоний был одним из сторонников автокефалии Грузинской Православной Церкви. В сентябре 1917 г. его назначили на Кутаисско-Гаенатскую кафедру, возведя в сан митрополита. Через год он был отравлен (по одной из версий, своим зятем). При большом стечении народа Владыку погребли в Кутаисском кафедральном соборе. Могла его не сохранилась.
Даже профессиональные «борцы с самодержавием» не могли не считаться с Дружбой Царской Семьи и Г.Е. Распутина. В качестве примера приводим две открытки выделки местечкового художника Я.Я. Рысса из целого вала подобного рода рисунков, обрушившихся на голову столичного обывателя.
Дивный и Светлый Юноша…
Как не было такого Царя и не будет…
Великий Самодержавец…
Кедр Ливанский…
Простые безхитростные слова старца Григория о Царевиче, пробивающие, однако (если быть честными, конечно), мощную коросту нашего равнодушия. Да и как иначе, ведь источником их было любящее сердце!
Алексея очень в душе имею…
Григорий Распутин. Государственный архив Российской Федерации.
«Её Величество была убеждена, - писала о Государыне Её подруга Ю.А. Ден, - что Распутин наделён даром исцелять больных. Она верила, что существуют такие люди, которым этот дар ниспослан Свыше, и что Распутин - один из них. Когда Ее уговаривали обратиться к помощи самых знаменитых докторов, Её Величество неизменно отвечала: “Я верю в Распутина”».
И вера Государыни не была посрамлена!.. «Наследник, - свидетельствовала А.А. Вырубова, - во время Своей болезни утверждал Матери и мне, что Григорий Ефимович входит к Нему в детскую, крестит Его “и тогда Мне лучше”».
В своих воспоминаниях Анна Александровна упоминала о предсказании Григория Ефимовича о том, что с 12-ти лет, то есть с 1916 года, Царевич «начнет поправляться и впоследствии совсем окрепнет». Более подробно А.А. Вырубова рассказала об этом в интервью американской журналистке Рите Чайлд Дорр летом 1917 г.: «“Когда Ребёнку исполнится двенадцать лет, - сказал нам Распутин, - Он начнёт поправляться. Потом Его здоровье будет постоянно улучшаться, и когда Он станет взрослым, Он будет здоров, как любой другой молодой мужчина Его возраста”. И очень скоро после того, как Мальчику исполнилось двенадцать, Он на самом деле начал поправляться».
Дом для почетных гостей в Верхотурском монастыре, в который в 1917 г. должен был приехать Царевич Алексий с Г.Е. Распутиным. Верхотурский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник.Предоставлено архимандритом Тихоном (Затёкиным).
Лейб-медик профессор С.П. Федоров рассказывал о времени вскоре после убийства старца: «…Матрос Деревенько однажды приносит Наследнику просфору и говорит: “Я в церкви молился за Вас; и Вы помолитесь святым, чтобы они помогли Вам скорее выздороветь!” А Наследник отвечает ему: “Нет теперь больше святых!.. Был святой - Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечат Меня, и молятся, а пользы нет. А он, бывало, принесет Мне яблоко, погладит Меня по больному месту, и Мне сразу становится легче”…»
М.В. Нестеров. Праведный Симеон Верхотурский. Бумага, гуашь. 1906 г. Нижегородский художественный музей. Этот эскиз, представленный на проходившей в январе 1907 г. в Петербурге выставке работ художника, был приобретен Императрицей Александрой Феодоровной. В Царское Село его лично доставил автор.
Для исцеления Царевича Алексия Николаевича, по совету Г.Е. Распутина, незадолго до начала Великой войны было решено возвести 12 храмов. Один из них был построен и освящен 18 октября 1912 г. в селе Погребя, на левом берегу Днестра.
Такой должна стать церковь в селе Погребя, построенная некогда по благословению Г.Е. Распутина для исцеления Наследника Всероссийского Престола - Цесаревича Алексия Николаевича.
Свято-Алексиевская церковь простояла до 1944 г., когда сильно пострадала во время боев. Недавно, по инициативе местного предпринимателя и с благословения митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимiра, было решено восстановить разрушенный храм, назвав его в честь Святых Царственных Мучеников. 3 октября 2013 г. состоялось освящение фундамента с участием благочинных из Криулян и Дубоссар. Хотя церковь находится в селе, расположенном на левом берегу Днестра, административно оно относится не к Приднестровской республике, а к Молдавии.
Последние фотографии Царевича. Тобольск. «Дом свободы». Май 1918 г. Пароход «Русь» 7 мая 1918 г. Автор съемки - Ч.С. Гиббс, учитель Алексея Николаевича. Предоставлено К.А. Протопоповым (Москва).
"Дорогой мой Маленькой! Посмотри-ка на Боженьку, какие у Него раночки. Он одно время терпел, а потом стал так силен и всемогущен - так и Ты, Дорогой, так и Ты будешь..."
Эту и другие публикации читайте в блоге С. В. Фомина "Царский Друг"
Posts from This Journal by “Царский друг” Tag
«Поздравил Государя с днем ангела...» Собственноручное письмо старца и царедворца Григория Распутина
Игорь Токарев Григорий Распутин. Скорбное предчувствие 2016 Масло, Холст Собственноручное письмо старца и царедворца…
-
УБИЙСТВО Г.Е. РАСПУТИНА: ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СГОВОР (postscriptum 4) (начало публикации см. здесь) Князь В.П. Палей. 1916 г. Сводный брат…
УБИЙСТВО Г.Е. РАСПУТИНА: ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СГОВОР (Продолжение)
УБИЙСТВО Г.Е. РАСПУТИНА: ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СГОВОР (postscriptum 3) (начало публикации см. здесь) Княгиня О.В. Палей в эмиграции…
УБИЙСТВО Г. Е. РАСПУТИНА: ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СГОВОР (Продолжение)
УБИЙСТВО Г.Е. РАСПУТИНА: ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ СГОВОР (postscriptum 2) (начало публикации см. здесь) Мачеха Ольга Валерьяновна в русском…
Писатель Игорь Евсин о скорбном пути святой Царской семьи и пророчествах ее Друга, старца Григория Распутина.
Юлия Александровна фон Ден, ближайшая подруга св. Царицы Александры Феодоровны вспоминала, как однажды старец Григорий сказал пророческие слова о Царской Семье: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».
Это пророчество полностью сбылось. Как известно после революции Царская семья была арестована, а впоследствии выслана в Тобольск. По дороге Царица-мученица написала Анне Вырубовой письмо, в котором говорится: «Нам не говорят, куда мы едем… и на какой срок, но мы думаем, это туда, куда ты недавно ездила /родина Распутина, с. Покровское/. Святой /свт. Иоанн Тобольский/ зовет нас туда и наш Друг /старец Григорий, к тому времени мученически убиенный/. Не удивительно, что мы именно здесь». Почему святая Царица не удивлялась, прибыв на родину Распутина мы скажем попозже, а пока обратимся к дневнику обер-гофмейстеринаы Е. А. Нарышкиной, в котором есть такая запись: «Выяснилось окончательно: их везут в Тобольск Государь очень побледнел и похудел. Императрица владеет собой и продолжает надеяться! Несмотря ни на что, рада ехать в домашнюю сферу «их дорогого Друга». И Аня - святая, перед которой следует преклониться. Ничего не изменилось в ее менталитете. Какое испытание, и какое унижение! А они все переносят со стойкостью и кротостью святых»
А теперь обратимся к мемуарам учителя Царских детей Пьера Жильяра: «Выехав 14-го августа в 6 часов утра, 17-го вечером мы прибыли в Тюмень - на станцию железной дороги, наиболее приближенную к Тобольску. Через несколько часов после этого мы грузились на пароход «Русь». На другой день мы плыли мимо деревни - места рождения Распутина, и Семья, собравшаяся на мостике, могла созерцать дом старца, который ярко выделялся посреди изб. Это событие не было для них неожиданностью, так как Распутин это предсказал, и это стечение обстоятельств, казалось, еще раз подтверждало его пророческие слова».
Вот почему для святой мученицы Александры Феодоровны не было удивительно, что их привезли на родину старца Григория.
Камердинер Николай Волков вспоминал: «Мы ехали на пароходе в Тобольск и, когда проезжали мимо села Покровского, Она, /Царица/ глядя в окно, сказала мне: «Вот здесь Григорий Ефимович жил. В этой реке он рыбу ловил и Нам иногда в Царское привозил».
Это событие отмечено и Царем мучеником Николаем II в дневнике от 6 августа 1917 г.: «Вчера перед обедом проходили /на пароходе/ мимо села Покровского - родина Григория». А вот его же запись от 14 апреля 1918 г., когда Царскую Семью переправляли из Тобольска в Екатеринбург на лошадях «В с. Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна».
Таким образом, Царь и Царица воочию убедились в истинности пророчеств старца Григория об их судьбе. Они окончательно поняли, что сбудется его пророчество и о том, что все они после его гибели будут убиты: «Русской земли Царь, - писал старец Григорий в свое письме к Государю Императору Николаю II, - когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, т. е. детей и родных не проживёт дольше двух лет. Их убьют….».
Мало того, Григорий Распутин, как истинный пророк знал и об оклеветании темными силами в России памяти святой Царской Семьи. Всего за несколько лет до ее мученической кончины Распутин писал: «…Опять я его (царевича Алексея) спас, я не знаю, сколько раз еще спасу я его для хищников. Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто я обнимаю мертвецов… И тогда я молюсь за этих людей, ибо они на Руси более всех нуждаются. И я молю за все семейство Романовых, ПОТОМУ ЧТО НА НИХ ПАДЕТ ТЕНЬ ДОЛГА И ЗАТМЕНИЯ».
И действительно, как сказано в одном из моих стихотворений, наш народ:
«Долго, слепо верил
Наветам, лжи и клевете.
Лишь Божьей милостью узрели
Царя в святой мы чистоте».
Скажем еще, что Царь и Царица, зная о своей гибели, носили в своем сердце и утешительное слово, которое передал старец Григорий их сыну, св. царевичу Алексию: «Дорогой мой маленькой! Посмотри-ка на Боженьку! Какие у Него раночки. Он одно время терпел, а потом стал силен и всемогущ – так и ты, дорогой, так и ты будешь весел, и будем вместе жить и погостить». Как предсказал старец Григорий – так и сбылось. Вместе с Царской Семьей он жил в земной жизни, творя одно только добро, но претерпевая за это одни только поношения и клевету. А Царская Семья, так же как и Распутин была ритуально убита.
Их гибель разительно похожа с самого начала – убийство старца и царственной семьи происходило в подвале. Потом к месту убийства была подброшена собака, потом сожгли их окровавленные одежды. Как в одном, так и в другом случае было перезахоронение и сожжение тел. Но главное заключается в том, что на небе они по пророчеству старца Григория увиделись, встретились в веселии, то есть в Царствии Божием. «Вместе жить и погостить» – это сказано об общности их как земной, так и небесной судьбы. Погостив на земле, они вечно стали вместе жить на небесах и вместе молиться о спасении России.
Потому, почитая святыми царственных учеников, мы должны почитать и старца Григория - молитвеника за Царскую семью и за Россию. И необходимо канонизировать пророка и чудотворца, человека Божия, мученика Григория Распутина-Нового. Как говорил праведный старец протоиерей Николай Гурьянов: «Мы и так уже опоздали. Россия несёт за Григория епитимью. Надо скорее очистить Григория и всё наше русское от неправды…».
Приложение №3
к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, председателя Синодальной комиссии
по канонизации святых
ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ И Г.Е. РАСПУТИН
Отношения царской семьи к Г.Е. Распутину нельзя рассматривать вне контекста исторической, психологической и религиозной ситуации, сложившейся в российском обществе в начале XX столетия, феномен Распутина, о котором говорят многие исследователи, едва ли можно понять вне исторического фона тогдашней России.
Как бы отрицательно ни относиться к личности самого Распутина, мы не должны ни на минуту забывать, что его личность в полной мере могла раскрыться в условиях жизни российского общества накануне катастрофы 1917 года.
Действительно, личность Распутина является во многом типологическим выражением духовного состояния определенной части общества начала XX века: «Не случайно в высшем обществе увлекались Распутиным, — пишет в своих воспоминаниях митрополит Вениамин (Федченков), — там была соответствующая почва для этого. А потому не в нем одном, даже скажу, не столько в нем, сколько в общей атмосфере лежали причины увлечения им. И это характерно для предреволюционного безвременья. Трагедия в самом Распутине была более глубокая, чем простой грех. В нем боролись два начала, и низшее возобладало над высшим. Начавшийся процесс его обращения надломился и кончился трагически. Здесь была большая личная душевная трагедия. А вторая трагедия была в обществе, в разных слоях его, начиная от оскудения силы в духовных кругах до распущенности в богатых» (2, 138).
Как же могло случиться, что столь одиозная фигура как Распутин могла оказывать значительное влияние на царскую семью и на российскую государственно-политическую жизнь его времени?
Одним из объяснений распутинского феномена является так называемое «старчество» Распутина. Вот что об этом пишет бывший товарищ обер-прокурора Святейшего Синода князь Н.Д. Жевахов: «Когда на горизонте Петербурга показался Распутин, которого народная молва назвала «старцем», приехавшим из далекой Сибири, где он якобы прославился высокою подвижническою жизнью, то общество дрогнуло и неудержимым потоком устремилось к нему. Им заинтересовались и простолюдин, и верующие представители высшего общества, монахи, миряне, епископы и члены Государственного Совета, государственные и общественные деятели, объединенные между собою столько же общим религиозным настроением, сколько, может быть, и общими нравственными страданиями и невзгодами.
Славе Распутина предшествовало много привходящих обстоятельств и, между прочим, тот факт, что известный всему Петербургу высотою духовной жизни архимандрит Феофан будто бы несколько раз ездил к Распутину в Сибирь и пользовался его духовными наставлениями. Появлению Распутина в Петербурге предшествовала грозная сила. Его считали если не святым, то, во всяком случае, великим подвижником. Кто создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю, но в обстановке дальнейших событий тот факт, что Распутину нужно было пробить дорогу к славе собственными усилиями, имеет чрезвычайное значение. Его называли то «старцем», то «провидцем», то «Божьим человеком», но каждая из этих платформ ставила его на одинаковую высоту и закрепляла в глазах Петербургского света позицию «святого» (5, 203-204, 206).
В самом деле, появившись в Петербурге, Распутин, еще совсем недавно проводивший жизнь в буйстве и пьяных разгулах — об этом, во всяком случае, свидетельствуют его односельчане — имел уже репутацию «старца» и «провидца». По всей вероятности, в 1903 году происходит его знакомство с ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии епископом Сергием (Страгородским), который представляет Распутина инспектору Академии архимандриту Феофану (Быстрову) и епископу Гермогену (Долганову). Особенно благоприятное впечатление Распутин произвел на архимандрита Феофана, духовника царской семьи, который испытывал глубокую симпатию к этому сибирскому мужику-проповеднику и видел в «старце Григории» носителя новой и истинной силы веры. При посредничестве великого князя Петра Николаевича и его жены Милицы Николаевны 1 ноября 1905 года произошло роковое знакомство с царской семьей, о чем мы читаем в дневнике Императора Николая II: «Пили чай с Милицей Николаевной и Станой. Познакомились с человеком Божьим — Григорием из Тобольской губернии» (3, 287).
Первые два года после знакомства Распутин не стал для царской семьи тем «дорогим Григорием», для которого были открыты их души. Они с радостью встречались и слушали других «Божьих людей». Так, Император записал в своем дневнике 14 января 1906 года: «В 4 часа к нам пришел человек Божий Димитрий из Козельска около Оптиной пустыни. Он принес образ, написанный согласно видению, которое он недавно имел. Разговаривал с ним около полтора часа» (3, 298).
До конца 1907 года встречи императорской семьи со «старцем Григорием» были случайными и довольно редкими. Между тем возрастала и молва о «сибирском старце», но по мере роста его известности достоянием гласности становились и вовсе нелицеприятные факты его безнравственного поведения. Быть может, они и остались бы фактами биографии Распутина и в лучшем случае вошли бы как курьез в историю петербургского общества, если бы не совпали с началом периода систематических встреч Распутина с царской семей. В этих регулярных встречах, проходивших в царскосельском доме А.А. Вырубовой, принимали участие и царские дети. Поползли слухи о принадлежности Распутина к секте хлыстов. В 1908 году по указу Императора Тобольской Духовной Консисторией было проведено расследование о принадлежности Распутина к хлыстовству. В заключение следствия было отмечено что «при внимательном рассмотрении следственного дела нельзя не видеть, что перед нами группа лиц, объединившихся в особое общество со своеобразным религиозно-нравственным мировоззрением и строем жизни, отличным от православного... Самый уклад жизни последователей Григория Нового и личность его самого как будто близко подходят... к хлыстовству, но твердых начал, на основании которых можно было бы утверждать, что мы здесь имеем дело с хлыстовством, в рассмотренном следствием делопроизводстве нет», поэтому следствие было отправлено на доследование, которое, по неустановленным причинам, так и не было закончено. Однако в опубликованных недавно воспоминаниях о Распутине В.А. Жуковской вновь ставится вопрос о принадлежности Распутина к крайней форме хлыстовства. В этих воспоминаниях приводятся свидетельства (распутинской фразеологии и его эротических радениях) о принадлежности «старца Григория» к хлыстовской секте (7, 252-317).
В чем же разгадка тайны Распутина? Как могло в нем соединиться несоединимое — поистине сатанинское буйство и молитва? Очевидно, противоборство этих двух начал происходило в его душе годами, но в итоге темное все же одолело. Вот что писал в своих воспоминаниях : «Сибирский странник, искавший Бога в подвиге, и вместе с этим человек распущенный и порочный, натура демонической силы, — он сочетал в своей душе и жизни трагедию: ревностные религиозные подвиги и страшные подъемы перемежались у него с падением в бездну греха. До тех пор пока он ужас этой трагедии сознавал, не все еще было потеряно; но впоследствии дошел до оправдания своих падений, — и это был конец» (4, 182). Еще более резкую оценку противоречивой натуре Распутина дал бывший воспитатель Великого князя П. Жильяр: «Судьба хотела, чтобы тот, которого видели в ореоле святого, был бы в действительности существом недостойным и развратным... нечестивое влияние этого человека было одною из главных причин смерти тех, кто верил, что найдет в нем спасение» (6, 40).
Так почему же все-таки Распутин оказался так близок к царской семье, почему так верили ему? Как заметила А.А. Вырубова в своих показаниях ЧСКВП в 1917 году, Николай и Александра Федоровна «верили ему как отцу Иоанну Кронштадтскому, страшно ему верили; и когда у них горе было, когда, например, наследник был болен, обратились к нему с просьбой помолиться» (1, 109).
Вот именно в этом последнем и следует видеть причину «роковой связи», соединившей Распутина с царской семьей. Именно в конце 1907 года Распутин оказался рядом с заболевшим наследником, впервые помог улучшению здоровья Алексея Николаевича. Вмешательство Распутина неоднократно изменяло в лучшую сторону течение болезни наследника — сохранилось довольно много упоминаний об этом, но конкретных, подлинно документированных данных почти нет. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то знал от кого-то, но никто из числа людей, оставивших письменные свидетельства, ничего сам не видел. Не случайно Пьер Жильяр пишет о том, как он неоднократно «имел возможность убедиться в том, какую незначительную роль играл Распутин в жизни Алексея Николаевича», но, повторяем, слухов в этой области всегда было больше, чем надежных фактов.
Именно случай исцеления царевича явился поворотом в отношении Александры Федоровны к Распутину, к этому, по ее словам «человеку Божьему». Вот что пишет уже упоминавшийся нами П. Жильяр о влиянии Распутина на Александру Федоровну через болезнь сына: «Мать ухватилась за надежду, которую ей давали, как утопающий хватается за руку, которую ему протягивают, и она уверовала в него со всей силой своей души. Давно она, впрочем, была убеждена, что спасение России и династии придет из народа, и она вообразила, что этот смиренный мужик был послан Богом... Сила веры сделала остальное и, благодаря самовнушению, которому способствовали случайные совпадения, Императрица пришла к убеждению, что судьба ее сына зависит от этого человека. Распутин понял состояние души этой отчаявшейся матери, сокрушенной в борьбе и дошедшей, как казалось, до пределов своего страдания. Он вполне усвоил, что мог извлечь из этого, и с дьявольским искусством он достиг того, что его жизнь до некоторой степени являлась связанной с жизнью цесаревича» (6, 37-38).
Именно болезнь сына оказалась определяющим моментом в отношении Александры Федоровны и Распутина — он стал надеждой и опорой ее семьи, более того, она верила, что под защитой этого человека ее семье и России не угрожает опасность — она знала это точно, она чувствовала это всем своим сердцем, «которое никогда не обманывало».
Поэтому при всей неприглядности разных слухов и сплетен, окружавших Распутина, Александра Федоровна видела его лишь с одной стороны. По словам дворцового коменданта В.Н. Воейкова, Александра Федоровна смотрела на Распутина как «на своего человека», игравшего в ее семье роль наставника-утешителя, — и как нам не понять исстрадавшейся матери, сына которой спасает от смерти этот человек? Она была убеждена, что Распутин — посланец от Бога, его заступничество перед Всевышним дает надежду на будущее...
Свое понимание роли Распутина Александра Федоровна излагала в письмах мужу. Так, в июне 1915 года она писала: «Слушайся нашего Друга: верь ему, сердцу дороги интересы России и твои. Бог недаром его послал, только мы должны обращать больше внимания на его слова — они не говорятся на ветер. Как важно для нас иметь не только его молитвы, но и советы». В другом письме мужу она писала, что «та страна, Государь которой направляется Божьим Человеком, не может погибнуть». Мы видим, как постепенно из «старца-утешителя» Распутин превращается во влиятельную политическую фигуру. Будучи умным и сообразительным, он, несомненно, понял, что уклоняться от роли советчика «мамы земли русской» он не может, иначе потеряет расположение царской семьи. Именно в этом драматическом смешении ролей Распутина была трагедия последнего царствования. Императрица предназначила «простецу и молитвеннику» роль, которую он ни при каких обстоятельствах не имел права играть, да и не имел возможности удачно ее исполнить.
Все попытки ближайших родственников, друзей, церковных иерархов предостеречь Александру Федоровну от влияния Распутина заканчивались разрывом, отставкой, полной изоляцией. В письмах Императору Николаю от 15 июня 1915 года Александра Федоровна писала: «Самарин, несомненно, пойдет против нашего Друга и будет на стороне тех епископов, которых мы не любим, — он такой ярый и узкий москвич» (1, 192). Хорошо известно, чем кончились выступления против Распутина священномученика митрополита Владимира, епископов священномученика Гермогена и Феофана. Полный разрыв произошел у Александры Федоровны и со своей сестрой — преподобномученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая в письме императору от 26 марта 1910 года писала о пребывании Распутина в духовной прелести.
Отношения самого Императора и Распутина были более сложными — восхищение «старцем» сочеталось у него с осторожностью и даже с сомнениями. Так, после первой встречи с Распутиным в 1907 году он сказал князю Орлову, что нашел в Распутине «человека чистой веры». Председателю Государственной Думы М. Родзянко он так характеризует Распутина: «Он хороший, простой русский человек. В моменты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно». Но все же Император испытывал беспокойство по поводу Распутина — ведь его не могли не тревожить сообщения доверенных лиц о скандальном его поведении. Император многократно пытался избавиться от него, но всякий раз отступал под давлением Императрицы или из-за необходимости помощи Распутина для излечения наследника. Вот что об этом пишет П. Жильяр: «Сначала он терпел его, не решаясь нанести удар вере Императрицы, которую Императрица имела в него и в которой она находила надежду, дававшую ей возможность ждать. Император опасался удалить Распутина, потому что если бы Алексей Николаевич умер, то Император в глазах матери, несомненно, являлся бы убийцей своего ребенка» (6, 157-158).
Подводя итог анализу причин влияния Г. Е. Распутина на царскую семью, в заключение хотелось бы отметить, что Император оказался не в состоянии противостоять воле Императрицы, истерзанной отчаянием из-за болезни сына и находившейся в связи с этим под зловещим влиянием Распутина, — как дорого пришлось впоследствии заплатить всей семье за это!
Библиография
1. Боханов А. Н. Сумерки монархии. М., 1993.
2. Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох, б/м, 1994.
3. Дневники императора Николая II. М., 1991.
4. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М., 1994.
5. Жевахов Н.Д., князь. Воспоминания, том 1. М., 1993.
6. Жильяр П. Тринадцать лет при Русском Дворе. Paris, б/г.
7. Жуковская В.А. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине, 1914-1916 гг. // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII - XX вв., тома 2-3. М., 1992, с. 252-317.