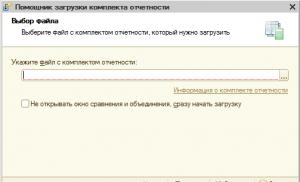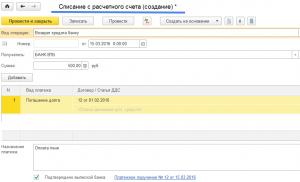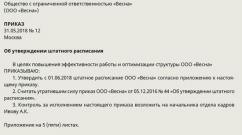Конная гвардия. Конный лейб-гвардии полк
Королевская конная гвардия считается отдельным родом войск и состоит из двух полков: лейб-гвардейского конного и Blues and Royals (Королевской конной гвардии и первого драгунного полка). Это самые старшие полка в Британской армии, их традиции пошли еще с 1660 года, к тому же, они являются личными телохранителями Королевы. Эти полка разделены на Вооруженный полк с казармами Комбермер в Виндзоре и церемониальный верховой отряд с казармами Найтсбридж в Лондоне. Оба полка много времени проводят перед казармами Комбермер, где проходят учения, особенно учения верховой езды. Последние месяцы гвардия активно готовится к большому событию – свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
(Всего 38 фото)

1. Члены Королевской конной гвардии на генеральной репетиции парада в Гайд-парке в Лондоне 14 апреля. Репетиция прошла перед базой гвардии, особое внимание уделялось верховой езде. (REUTERS/Stefan Wermuth)

2. Гвардейцы готовятся к королевской свадьбе. (REUTERS/Stefan Wermuth)

3. Репетиция в Гайд-парке. (REUTERS/Stefan Wermuth)

4. Королевский кавалерист на генеральной репетиции королевской свадебной церемонии в Гайд-парке. (REUTERS/Stefan Wermuth)

5. Королевский конный гвардеец. (REUTERS/Stefan Wermuth)

6. Конные гвардейцы стоят на карауле только в дневное время и только у светлого неоклассического здания своих казарм на лондонской улице Уайтхолл. (REUTERS/Sergeant Dan Harmer RLC/MoD/Crown Copyright/handout)

7. Служба их носит скорее символический характер. Единственное оружие – сабля. Меняют их каждый час: лошадь больше часа неподвижно стоять не может. (REUTERS/Sergeant Dan Harmer RLC/MoD/Crown Copyright/handout)
8. В Великобритании нет обязательной воинской повинности, и все военнослужащие, в том числе гвардейцы – контрактники. (REUTERS/Sergeant Dan Harmer RLC/MoD/Crown Copyright/handout)

9. В первый год службы рядовой гвардеец получает 750 фунтов в месяц (около тысячи долларов). Кадр, который будет ловить любой свадебный фотограф . (REUTERS/Sergeant Dan Harmer RLC/MoD/Crown Copyright/handout)

10. Трубач Королевской конной гвардии во время пресс-конференции в Гайд-парке 15 апреля в Лондоне. Члены Королевской конной гвардии будут сопровождать принца Уильяма и Кейт Миддлтон в день их свадьбы 29 апреля. Свадебные торты будут также выноситься под мелодии трубачей. (REUTERS/Stefan Wermuth)

11. Конный гвардеец в работе над подковой на пресс-конференции в Гайд-парке. (REUTERS/Stefan Wermuth)

12. Конный гвардеец переодевается. (REUTERS/Stefan Wermuth)

13. Гвардеец расчищает копыта своей лошади после репетиции. (REUTERS/Stefan Wermuth)

14. Конные гвардейцы чистят свое обмундирование. (REUTERS/Stefan Wermuth)

15. Процесс подготовки к знаменательному событию включает в себя умение до блеска отполировать шлем и другие составляющие формы. (REUTERS/Stefan Wermuth)

16. Также нужно следить за состоянием лошадиных уздечек. (REUTERS/Stefan Wermuth)

17. Отбор в кавалерийский полк очень жесткий, однако туда часто берут людей других национальностей – представителей Индии, Пакистана, Африки. (REUTERS/Stefan Wermuth)

18. Представитель Королевской конной гвардии работает с подковой. (REUTERS/Stefan Wermuth)

19. Время кормить лошадей. (REUTERS/Stefan Wermuth)

20. Гвардеец чистит свою лошадь. (REUTERS/John Stillwell/POOL)

21. Уборка конюшен. (REUTERS/John Stillwell)

22. Подготовка к репетиции. (REUTERS/John Stillwell)

23. Лейб-гвардейцы – самое старое подразделение британской армии, сформированное в 1660 г., во время Реставрации. (REUTERS/John Stillwell)

24. Полк Королевской Конной Гвардии был впервые организован Кромвелем перед вторым вторжением в Шотландию, но в 1660 г. все офицеры - сторонники парламента были заменены на роялистов. (REUTERS/Stefan Wermuth)

25. Гвардеец с седлом в казармах в Гайд-парке в Лондоне. (REUTERS/Stefan Wermuth)

26. Королевский конный гвардеец на манеже школы верховой езды в Гайд-парке. (REUTERS/Stefan Wermuth)

27. Конный гвардеец готовится сесть на лошадь. (REUTERS/Stefan Wermuth)

28. Конный гвардеец готовится сесть на лошадь. (REUTERS/Stefan Wermuth)

29. Гвардеец на лошади во время смотра войск на генеральной репетиции свадебной церемонии принца Уильяма и
Василий Каульбарс. Александр Суворов.
День рождения Лейб-гвардии Конного полка -16 июля 1706 года. Тогда он назывался «лейб или генеральный драгунский шквадрон» и составлял личный конвой светлейшего князя А. Д. Меншикова. В этом качестве он участво-вал во многих сражениях Великой Северной войны, в том числе в битве под Полтавой, где лейб-драгуны «в жестокой кавалерийской сече» отбили знамя у неприятеля. В 1711 году «лейб-шквадрон» совершил Прутский поход, был переименован Петром Великим в «лейб-регимент» и уже при Анне Иоанновне (с 31 дека-бря 1730 года) стал называться Конной гвар-дией. Впоследствии роты конногвардейцев штурмовали Очаков, брали Хотин, атаковали шведов в Гельсингфорсе. Особо полк отли-чился в одном из самых трагичных для рус-ской армии сражений - под Аустерлицем 2 декабря 1805 года, где, пойдя наперерез пехоте неприятеля, занявшей Праценские высоты, Конная гвардия приостановила насту-пление французов и тем самым позволила вывести из-под огня остатки войск союзников. При этом было захвачено знамя 4-го линей-ного французского полка. В дальнейшем кон-ногвардейцы славно дрались при Фридланде, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, под Бауценом, Кульмом, Лейпцигом и Фер-Шампенуазом, где они захватили 6 орудий и изрубили два каре пехоты.
Однако была в истории полка дата, отмечав-шаяся особо, - 14 декабря 1825 года, день попытки государственного переворота, впо-следствии получившего известность как вос-стание декабристов. В те критические для судьбы российской монархии часы конногвар-дейцы решительно поддержали Николая I. Ранним утром присягнув молодому импера-тору, они первыми среди оставшихся верными правительству войск пришли на Сенатскую площадь, в течение дня блокировали восстав-ших, а затем, после разгрома мятежников, уча-ствовали в преследовании бегущих. Своим рвением конногвардейцы заслужили благо-дарность Николая, который до самого конца своего царствования не раз демонстрировал им особое монаршее расположение. Участие Конной гвардии в событиях того дня нашло отражение в брошюре одного из участников подавления декабрьского восстания - В. Р. Каульбарса. История этого редкого малотиражного издания изложена в газетной заметке, посвящённой полковому празднику конногвардейцев, прошедшему 30 декабря 1880 года: «Лейб-гвардии Конный полк торжественно отпразд-новал 150-летний юбилей своего существова-ния, устроив в своих казармах домашнее празднество. На богослужении, а затем на завтраке присутствовали августейший фельд-маршал Николай Николаевич Старший и немало лиц, служивших прежде в рядах лейб-гвардии Конного полка. Самым старшим оказался отставной генерал-майор барон В. Р. Кауль-барс, бывший в момент события 14-го декабря 1825 года в чине штаб-ротмистра названного полка... Полковник барон К. Штакельберг под-готовил своим товарищам сюрприз. С согла-сия барона В. Р. Каульбарса он издал в русском переводе часть его дневника, касающегося события 14-го декабря 1825 года, которого барон Каульбарс был ближайшим очевидцем. Экземпляр небольшой брошюры, озаглавлен-ной "Конная гвардия 14-го декабря 1825 года", был роздан каждому из присутствовавших». Переводчик и издатель книги К. К. Штакельберг (автор вышедшего год спустя капиталь-ного исследования «История лейб-гвардии Конного полка. Полтора века Конной Гвардии. 1730-1880») в предисловии пояснил, чем именно заинтересовал его этот труд: «Присту-пая с согласия барона Василия Романовича Каульбарса к переводу выписки из его днев-ника, писанного им на немецком, я имел в виду, что... воспоминания его имеют для нас тот интерес, что были записаны на следующий день по происшествии без намерения предать их гласности. Вот почему мы должны быть благодарны старейшему в настоящее время представителю нашей полковой семьи, 83-летнему товарищу нашему, который дал нам возможность дополнить одну из славных страниц истории верной своему царю и долгу Конной гвардии».
Действительно, записи В. Р. Каульбарса, сде-ланные под впечатлением от только что уви-денного и пережитого, отличают по-военному чёткая последовательность в изложении собы-тий, внимание к деталям, но вместе с тем эмо-циональный настрой человека, пережившего недавнюю опасность. Заслуживают внимания даже слухи о действиях и планах заговорщи-ков, захлестнувшие в те дни российскую сто-лицу и пересказанные эстляндским бароном.
Первая встреча Каульбарса с восставшими произошла утром, когда, готовясь к приёму в Зимнем дворце, он отправился на Невский проспект, чтобы купить себе новый офицер-ский шарф. «Возвращаясь по Большой Мор-ской, - пишет Василий Романович, - я заметил перед собой отряд войск со знаменем впереди, который заворачивал с Гороховой улицы на Большую Морскую по направлению к Исааки-евскому собору. Впереди шёл офицер в адъю-тантском мундире, держа в правой руке обна-жённую саблю и потрясая левой рукой какую-то бумагу. Всё это шествие было окру-жено густою толпою народа. Вовсе не думая о каком бы то ни было возмущении и видя невозможность проехать сквозь эту толпу, я обходным проездом благополучно добрался домой, в наши казармы. Таким образом я избег-нул, совершенно случайно, попасть в руки заговорщиков, так как они, как я после узнал, грозя холодным и огнестрельным оружием, заставляли вступать в их ряды всякого встреч-ного военного».
Спустя полчаса после возвращения Каульбарса в казармы полк был поднят по тревоге и выдвинулся к Зимнему дворцу, где их встре-тил Николай I. О дальнейших событиях в днев-нике конногвардейца говорится: «Государь направился шагом к Исаакиевской площади, на которой тем временем собрались заговор-щики, образовав два отдельных каре. Между обоими каре образовалось свободное про-странство, по которому спокойно проезжали на [большой праздничный] выход в Зимний дворец экипажи. На наше «ура!» оба каре отве-тили: "Ура, Константин!"»
Занимая позицию, конногвардейцы прошли на расстоянии всего лишь 10-12 шагов от мятежников, которые дали по кавалерии несколько залпов. Одной из пуль был ранен командир эскадрона, и Каульбарс заменил его в строю. «Отсутствием между нами дальней-ших потерь, несмотря на столь близкое рас-стояние от каре, - напишет он на следующий день, - мы обязаны тому, что заговорщики, в большинстве, стреляли, держа ружья на руку, и что между ними было много людей в нетрез-вом виде». Противостояние восставших и пра-вительственных войск продолжалось: «Мы стояли против них, окружённые густою тол-пою народа и любопытных. При этом задняя наша шеренга была прижата к платформе Сенатской гауптвахты. Выстрелы с их стороны в воздух и крики «Ура, Николай!» и «Ура, Кон-стантин!» продолжались почти без перерыва. Тем не менее положение наше было одно из самых незавидных. Не только потому, что наши лошади не были перекованы на шипы и при малейшем движении, вследствие гололе-дицы, скользили и падали с седоками, но глав-ным образом оттого, что всё наше внимание должно было быть обращено на крышу Сената. Туда забралось немало народу, бомбардируя нас сверху дровами, внесёнными со двора. Как мы узнали потом, эти люди перешли на сто-рону мятежников вследствие обещания дозво-лить им трёхдневный грабёж и мародёрство в городе. Один из наших офицеров получил таким поленом столь сильный удар в живот, около самой луки, что, потеряв сознание, тут же упал с лошади. В таком положении он был отнесён в казармы, где, придя в сознание, уви-дел лежащего в предсмертной агонии графа М. А. Милорадовича».
Выполняя приказ командования, четыре эскадрона Конной гвардии пытались атако-вать восставших: «Они были принуждены сде-лать несколько атакообразных демонстраций, которые, конечно, были неудачны ввиду голо-ледицы и столь близкого расстояния. При пер-вой попытке они были встречены ружейным залпом, при последующих в них даже не стре-ляли, напротив, шутливо подсмеивались над ними в каре».
Кульминация наступила около трёх часов пополудни: «При стоявшей с утра пасмурной погоде день стал быстро темнеть. Офицеры и нижние чины при 7-8 градусах мороза были в одних мундирах... В рядах между нижними чинами стали чаще повторяться слова: «Да пора покончить с ними!» Вдруг показался клубок порохового дыма. Последовал пушечный выстрел. Картечь прожужжала, однако, высоко по воздуху. (Вероятно, с умыслом, чтобы пред-варительно морально подействовать на заго-ворщиков.) Заряд этого выстрела попал в зда-ние Сената и свалил на платформу гауптвахты некоторых из находившихся на крыше людей. Двое из них, взобравшиеся на пьедестал статуи Справедливости, лежали теперь, после постиг-шей их участи, у ног её. Едва это было замечено нами, как офицеры и нижние чины, в высшей степени озлобленные при воспоминании о бомбардировке поленьями, разразились кри-ком «ура!», некоторые же офицеры в справед-ливом негодовании стали кричать: «Форо! Форо!» (От итальянского fuori - вперёд; упо-треблялось во время театрального представле-ния публикой, требующей от артиста повторе-ния удачно исполненного номера. - Авт.) Это «форо» недолго заставило себя ждать. После-довали ещё несколько выстрелов, теперь уже удачнее направленных. Тут они не устояли».
Вечером конногвардейцы патрулировали город и конвоировали арестованных на гаупт-вахту Зимнего дворца и в Манеж. Так, ими была задержана группа участвовавших в восстании лейб-гренадеров, которые «вернулись совер-шенно покойно в свои казармы и приступили к чистке ружей, как будто после какого-нибудь учения. Все эти нижние чины были зааресто-ваны без малейшего с их стороны сопротивле-ния и отведены в Манеж нашим юнкером кня-зем Суворовым, конвоировавшим их только с одним вынутым палашом».
Упоминаемый Каульбарсом юнкер - А. А. Суво-ров, князь Италийский, граф Рымникский. Во время следствия по делу декабристов выясни-лось, что он сам был причастен к тайному обществу, и его подвергли аресту. Впрочем, вскоре внука генералиссимуса А. В. Суворова отпустили и отправили на Кавказ, где он отли-чился в боевых действиях. Впоследствии Алек-сандр Аркадьевич сделал блестящую карьеру: был генерал-адъютантом, генерал-губерна-тором Прибалтийского края и военным губер-натором Риги, членом Государственного совета, с 18 октября 1861 года - санкт-петербургским военным генерал-губернатором.
А. А. Суворов также оставил воспоминания о восстании 14 декабря. Они были опублико-ваны журналом «Русская старина» всего лишь через несколько недель после появления книги В. Р. Каульбарса. В них Суворов, в частности, рассказывает о том, как впервые повстречал в тот день лейб-гренадеров, которых вскоре будет конвоировать с обнажённым палашом в руке: «Император был почти один... Вдруг идёт второй батальон лейб-гвардии Гренадерского полка... Батальон кричал «ура!». Лейб-гренадеры шли между царём и нами, чуть ли не касаясь колен Его Величества, задевая наших фланго-вых. Его Величество, видя, что люди очень торо-пятся, сказал: «Не спешите, успеете!» Но тут дело прояснилось громким криком: «Ура, Констан-тин!» Государь с великим удивительным хлад-нокровием и величием показал сам рукою: «сту-пайте вот куды» и продолжал смотреть на проходивших лейб-гренадеров». Заканчивались мемуары словами: «В Бозе почивший импера-тор Николай I любил Конногвардейский полк и ежегодно осчастливливал его своим посеще-нием в годовщину 1825 года, декабря 14... Я слу-жил в этом полку и теперь принадлежу ему».
В Библиохронике представлен интересней-ший конволют, состоящий из воспоминаний В. Р. Каульбарса и А. А. Суворова. Казалось бы, перед нами убедительное свидетельство безу-словной верности конногвардейцев царю и отечеству. Почему «казалось бы»? Одним из активных участников восстания 14 декабря являлся корнет лейб-гвардии Конного полка князь А. И. Одоевский. Придя на Сенатскую площадь, он возглавил пикет из взвода солдат
Московского полка. Был приговорён к 12 годам каторги и сослан в Сибирь (впоследствии пере-ведён рядовым на Кавказ). В 1827 году написал стихотворный ответ на знаменитое послание Пушкина «Во глубине сибирских руд...». Строчка оттуда - «Из искры возгорится пламя» - стала эпиграфом первой российской марксистской газеты «Искра», явившейся пред-вестницей новой революции, которая почти через сто лет уничтожила всё то, что конно-гвардейцы защищали в памятный для них день 14 декабря 1825 года.
Каульбарс Василий Романович (1798-1888)
Конная гвардия 14 декабря 1825 года. Из дневника Старого Конногвардейца. Санкт-Петербург: Коммерческая Скоропечатня Евгения Тиле, 1880. 32 с., 1 л. складной - «План конногвардейских казарм и окружающей местности в 1825 году». Издательские печатные обложки сохранены. Приплёт: Суворов Александр Аркадьевич (1804-1882) Лейб-гвардии Конный полк 14 декабря 1825 года //
Русская старина. 1881. Том ХХХ (январь). С. 204-210. (Извлечение).
В одном владельческом коленкоровом переплёте последней четверти XIX века. На крышках золототиснёные геометрические рамки и орнаментальные уголки. В центре передней крышки тиснённое золотом заглавие. 21x14,5 см. На передней издательской обложке надпись коричневыми чернилами: «Барону Каульбарс». На титульном л. экслибрисы «General-Lieutenant Baron von Kaulbars in Moedders» («Генерал-лейтенант Барон фон Каульбарс в Мёддерсе» - нем.; Мёддерс - родовое имение Каульбарсов в Везенбергском уезде Эстляндской губернии) и «П. Гуляшов». На оборотной стороне свободного л. переднего форзаца и оборотной стороне титуль-ного л. наклеены газетные вырезки на русском и немецком языках - рецензии на книгу В. Р. Каульбарса. В тексте многочисленные пометы и исправления коричневыми чернилами. Малотиражное издание, подготовленное к 150-летию лейб-гвардии Конного полка и раздававшееся участникам полкового праздника. Авторский экземпляр В. Р. Каульбарса. Безусловная редкость.
Печать
810 Оценить статью:
Виктор Файбисович
Альбом Лейб-Гвардии Конного полка
В 1846 г. в Петербурге состоялся необычный парад Лейб-Гвардии Конного полка. Конная Гвардия 1 проводила парады по нескольку раз в году: летом в Красном Селе, весной и зимой в Петербурге. В столице конногвардейцы принимали участие в парадах не только на Марсовом поле и Дворцовой площади, но и в залах Зимнего дворца: 6 января, по случаю окропления Штандартов святою водою, и 25 декабря, в память о победоносном окончании Отечественной войны 1812 г.; в день полкового праздника, 25 марта, Л.-Гв. Конный полк церемониальным маршем проходил мимо государя в своем знаменитом полковом манеже, построенном по проекту Джакомо Кваренги 2 .
В этот раз парад был назначен на неурочное число и в непривычном для конногвардейцев месте: 7 ноября в манеже Михайловского замка 3 . Тому была веская причина: в этот день исполнилось полвека со времени вступления на престол императора Павла Петровича - по воцарении он провозгласил Шефом Конногвардейского полка своего новорожденного сына Николая. Конногвардейцы остались верны своему императору до его трагической гибели. Удаляясь весной 1801 года из Петербурга, Мария Федоровна, вдова умерщвленного императора, пожелала, чтобы караул в Павловске нес эскадрон Л.-Гв. Конного полка. «Я тотчас был командирован в Павловск, - вспоминал конногвардейский офицер Н.А.Саблуков, - и эскадрон мой по особому повелению государя был снабжен новыми чепраками, патронташами и пистолетными кобурами с андреевской звездою, имеющею, как известно, надпись с девизом «за Веру и Верность». Эта почетная награда, как справедливая дань безукоризненности нашего поведения во время заговора, была дана сначала моему эскадрону, а затем распространена на всю Конную гвардию» 4 .
Пятьдесят лет спустя, 7 ноября 1846 г., парадом в Михайловском манеже император Николай I почтил память своего отца и отметил полувековой юбилей своего шефства над Л.-Гв. Конным полком. Впрочем, этот юбилей был весьма условен. Начиная с императрицы Анны Иоанновны, основательницы Конной Гвардии, все российские монархи, как правило, становились шефами последней; исключение составил лишь император Александр I . Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина Великая числились шефами Конной гвардии до самой кончины. Лишь Петр III после двух месяцев шефства над Конной гвардией передал его своему дяде, Георгу Людвигу, герцогу Шлезвиг-Голштейнскому. Однако последний в звании шефа состоял лишь четыре месяца. Ему не удалось снискать симпатий конногвардейцев, и в день переворота 28 июня 1762 г., к которому они с энтузиазмом присоединились, Конная Гвардия, по свидетельству Екатерины II , «поколотила» своего шефа. Екатерина числилась в звании Полковника Л.-Гв. Конного полка тридцать четыре года; после ее смерти Павел I принял звание шефа всех гвардейских полков и одновременно назначил Полковником Конной Гвардии своего четырехмесячного сына Николая. Однако, не достигнув и четырехлетнего возраста, Николай Павлович был лишен этой чести: 28 мая 1800 г. император передал звание шефа Конногвардейского полка другому своему сыну - двадцатилетнему Константину, носившему его более тридцати одного года. По смерти Константина Павловича (15 июня 1831) Николай в день своего тридцатипятилетия (25 июня 1831) вновь принял на себя шефство над Конной Гвардией; шефом конногвардейцев он оставался до самой смерти, но общий срок его шефства в 1846 г. составлял, конечно, не пятьдесят лет, а менее шестнадцати.
Как бы то ни было, 7 ноября 1846 г. полк был выведен на парад в Михайловский манеж в полном составе и в конном строю. Государь, явившийся к Конной Гвардии в ее полковом мундире, принял в качестве Шефа командование над нею. Его свиту, наряду с несколькими флигель-адъютантами из числа конногвардейцев, составляли наследник Александр Николаевич и бывшие полковые командиры - граф А.Ф.Орлов и барон Е.Ф.Мейендорф. Великий князь Константин Николаевич находился перед 1-м дивизионом. По прибытии императора в манеж прозвучал сигнал к молитве, исполненный хором трубачей, и к фронту полка были вывезены штандарты. Конногвардейцы обнажили головы, и начался торжественный молебен, окончившийся возглашением вечной памяти императору Павлу. Затем Николай Павлович обратился к полку с благодарственной речью, по окончании которой полк прошел несколько раз церемониальным маршем мимо государя, встречавшего ряды Конной Гвардии своим приветствием. По окончании парада унтер-офицеров и рядовых ожидал торжественный обед в казармах; офицеры были приглашены к императорскому столу в Зимний дворец.
Это событие увековечено в великолепном альбоме, хранящемся в музее Пушкинского Дома (ИРЛИ) 5 . Альбом заключен в роскошный переплет красного сафьяна (53,5 х 46,5 х 8,5 см) с пятью массивными накладками превосходной золоченой бронзы. Угловые накладки представляют собою арматуры из предметов вооружения и экипировки Конной гвардии в обрамлении лавровых ветвей: композиции из штандартов, пик с флюгерами, палашей, касок образца 1845 г., кирас и литавров. Центр украшает изображение двуглавого орла с венком и факелами в лапах. Крышки альбома обтянуты с внутренней стороны белым муаром; блок с золотым обрезом составлен из плотных листов, на которые наклеено 86 портретов конногвардейцев и лиц, причастных к Конногвардейскому полку, кисти В.И.Гау (27,7 х 21,7 см), а также 7 исполненных К.К.Пиратским изображений различных сцен полковой жизни павловской (2) и николаевской (5) эпох (36 х 29 см). Альбом хранится в специальном деревянном футляре, обтянутом светлокоричневой кожей.
Владимир Иванович Гау (1816-1895) был привлечен к созданию этого альбома неслучайно. Он прошел отличную школу: сначала у К.Ф.Кюгельхена в своем родном Ревеле (в 1827-1832 гг.), затем в петербургской Академии художеств, в качестве вольноприходящего ученика в классе знаменитого баталиста А.И.Зауервейда (в 1832-1836 гг.). В 1836 г. его достижения в «акварельной живописи» были отмечены большой серебряной медалью и присуждением ему звания неклассного художника. В 1838-1840 гг. Владимир Гау совершенствовал свое мастерство в Германии и Италии. По возвращении в Россию двадцатичетырехлетний живописец, миниатюрист и акварелист Владимир Гау был назначен придворным портретистом императора Николая I 6 . Его виртуозное владение техникой акварели, скрупулезное внимание к аксессуарам костюма и деталям обстановки в сочетании с умением тонко польстить своей модели обеспечили ему успех в столичном свете. Плодовитость молодого художника, которому предстояло в сжатые сроки исполнить чуть ли не сотню портретов; навыки, приобретенные им в классе батальной живописи; наконец, фавор, которым он пользовался у императора - вот причины, по которым выбор пал на Владимира Гау.
Столь же оправданным было приглашение в соавторы к Владимиру Гау Карла Пиратского. Карл Карлович Пиратский (1813 - 1871) также был талантливым акварелистом. Он поступил в Академию художеств пенсионером Николая I ; как и В.Гау, он учился в классе А.И.Зауервейда. В 1832 и 1834 гг. он получил две малые и одну большую серебряные медали за успехи; в 1835 г. его картина «Внутренний вид конюшни» была удостоена малой золотой медали. Однако в конкурсе на большую золотую медаль молодой баталист не участвовал, обремененный поручениями императора Николая Павловича, нашедшего в Пиратском безупречного выразителя своего фрунтового идеала. По выходе из Академии (1836) с аттестатом 1-й степени, двадцатитрехлетний Карл Пиратский был назначен «придворным живописцем Его Величества» с годовым содержанием в 3000 руб (такое жалованье с 1 января 1839 г. в Конной Гвардии получал генерал-майор). Еще через два года К.К.Пиратский приступил к своему многолетнему труду над иллюстрациями к знаменитому многотомному изданию «Историческое описание одежды и вооружения российских войск». Ко времени создания альбома Конной Гвардии трудно было найти художника, более опытного в изображении сцен из военной жизни и более сведущего в «форменных отличках» павловской и николаевской эпох 7 .
Л.-Гв. Конный полк - старейший гвардейский кавалерийский полк в России 8 . В первые три десятилетия XVIII в. гвардию российских императоров составляли лишь два пехотных полка: Преображенский и Семеновский. Вступив на престол в 1730 г., Анна Иоанновна учредила третий - Измайловский; однако наряду с гвардейской пехотой она пожелала иметь и гвардейскую кавалерию. Драгунский полк, именовавшийся Лейб-Региментом, повелено было преобразовать в Гвардейский Драбантский или Конный полк. В последний день 1730 г. Правительствующий Сенат передал соизволение императрицы Военной Коллегии; указом по военному ведомству от 4 января 1731 г. было объявлено об учреждении Конной Гвардии.
В 1737-1739 гг. Л.- Гв. Конный полк воевал с турками, а в 1742 и 1788 гг. - со шведами. Неувядаемые лавры стяжал он в наполеоновских войнах. Конногвардейцы не ударили в грязь лицом даже в катастрофе при Аустерлице, захватив знамя 4-го линейного полка неприятеля (в этом бою они потеряли 40 человек убитыми и пропавшими без вести). Отличилась Конная Гвардия и при Фридланде, где понесла самые тяжелые потери за время, прошедшее со дня ее основания (83 человека убитыми и пропавшими без вести). Героически дрались конногвардейцы при Бородине, где их полк наряду с Кавалергардским водил в атаку на батарее Раевского сам Барклай де Толли. В 1813 г. Л.-Гв. Конный полк отличился при Кульме и снискал громкую славу при Фершампенуазе в 1814 г.
В 1846 г. хранители преданий героической борьбы с Наполеоном остались в Конной Гвардии лишь среди генералов и нижних чинов. При императоре Николае Павловиче Конная Гвардия участвовала только в Польской кампании 1831 г. Однако и в этой войне конногвардейцы находились в резерве и ни в боях, ни в штурме Варшавы задействованы не были. Впрочем, участникам этого похода были весьма щедро розданы чины и звания, ордена и медали. Однако истинно боевые награды мы находим на портретах лишь тех конногвардейцев, которые командировались к театру военных действий во время Турецкой войны или в действующие отряды на Кавказ, куда с 1835 г. ежегодно отправлялся по жребию один из офицеров Конной Гвардии.
Зато наряду с Кавалергардским полком Конная Гвардия играла весьма заметную роль в столичной жизни николаевской эпохи; в 1846 г. в Л.-Гв. Конном полку служили и представители русских княжеских и старинных дворянских родов (кн. Голицыны, кн. Урусовы, Нарышкины, Анненковы, Опочинины, Свечины, Бибиковы, Головины, Дурново, Бутурлины, Чичерины, кн. Васильчиковы), и титулованных фамилий, выдвинувшихся в XVIII в. (гр. Строгановы, гр. Орловы, гр Шуваловы, гр. Гудовичи), и новой николаевской чиновной элиты - бар. Штакельберги, гр. Канкрины или Адлерберги. Мундир Конной Гвардии служил своеобразной вывеской принадлежности к великосветскому обществу. Вспомним, что в лермонтовской «Княгине Лиговской» (1836) Жорж Печорин, «послужной список» которого автор выстраивает по всем канонам удачливой военной и светской карьеры, служит в Л.-Гв. Конном полку, куда его переводят из армейских гусар за отличие в Польской кампании 1831 г. 9 В 1846 г. Печорин мог бы уже иметь чин ротмистра или полковника…
Альбом открывается портретом державного шефа; за ним следуют портреты бывших конногвардейцев, состоявших в полку на 7 ноября 1796 г. Таких в Петербурге оказалось осенью 1846 г. десять человек: П.А. Венгерский, кн. И.В. Васильчиков, А.З. Хитрово, кн. Н.И. Дондуков-Корсаков, Д.В. Васильчиков, И.Б. Цейдлер, П.А. Чичерин, И.Д. Данилов, П. Якунин и М. Башин, - но в торжестве участвовали не все: П.А. Венгерский «за немощью», а И.В. Васильчиков по болезни на параде не присутствовали. В Альбоме, однако, запечатлены все десять бывших конногвардейцев.
Еще восемь их соратников, служивших в 1796 г. в офицерских чинах (гр. Г.Штакельберг, А.С.Свечин, Н.А.Саблуков, гр. А.И.Гудович, гр. А.А.Дебальмен, гр. Ф.П. фон дер Пален, гр. А.П.Ожаровский, А.И.Рибопьер), в параде не участвовали по причине отсутствия в столице, однако портреты двух из них - Н.А.Саблукова и А.И.Рибопьера - также были вклеены в альбом. Помещены были в альбом и портреты двух бывших конногвардейцев, зачисленных в полк в тот краткий период, когда шефом полка был младенец Николай: гр. П.П. фон дер Палена и гр. К.В.Нессельроде. Портрет последнего оказывается в альбоме первым после портрета государя: гр. К.В.Нессельроде, состоявший в Конной гвардии немногим более трех лет, дослужился на статской службе до чина государственного канцлера, а портреты в альбоме расположены по табели о рангах, и завершают первый раздел этой портретной галереи изображения нижних чинов - Петра Якунина и Максима Башина.
Во втором условном разделе альбома помещены три портрета великих князей, зачисленных в Конный полк в годы правления императора Николая I , - это портреты его сыновей, Константина и Александра, и внука, Николая Александровича. Заметим, что портрет трехлетнего Николая предшествует портрету его взрослого дяди Константина, ибо со временем этот мальчик должен был стать престолонаследником.
За великими князьями следуют генералы Конной Гвардии - гр. А.Ф.Орлов, бар. Ф.П.Оффенберг, бар. Е.Ф.Мейендорф, А.А.Эссен, -бывшие командиры полка. Портрету П.П.Ланского, командовавшего Конным полком в 1846 г., предшествует портрет царскосельского коменданта бар. И.И.Велио, полковым командиром не служившего, но числившегося в Конной Гвардии в звании генерал-лейтенанта, тогда как П.П.Ланской был лишь генерал-майором. Портрет П.П.Ланского помещен в альбоме наряду с портретом его супруги, Н.Н.Ланской, рожденной Гончаровой, в первом браке Пушкиной; это единственный женский портрет в альбоме.
За портретами супругов Ланских следуют портреты восьми полковников, четырнадцати ротмистров, семи штабс-ротмистров, десяти поручиков и четырнадцати корнетов.
Галерею конногвардейцев продолжают портреты нестроевых: квартермистра, аудитора, берейтора, докторов, ветеринарного помощника и полкового священника. Ее завершает портрет прапорщика П.В. Еремеева - офицера Гвардейской Инвалидной № 12 четвертьроты, состоящей при Конной Гвардии 10 .
Заключают альбом семь акварелей К.К.Пиратского: пять из них изображают сцены из современной ему жизни Л.-Гв. Конного полка; на двух - запечатлены чины Конной Гвардии павловского времени.
До сих пор принято было считать, что конногвардейцы поднесли этот альбом государю Николаю Павловичу; впервые это мнение было высказано научным сотрудником Пушкинского Дома М.Д.Беляевым (1930) 11 .Однако никаких посвятительных надписей, неизбежных при поднесении даров государю, в альбоме нет. Более того: из документов Архива канцелярии Министерства двора (на которые впервые обратил внимание М.Д.Беляев) явствует, что альбом создавался по прямым указаниям императора и оплачивался из средств Кабинета.
По-видимому, Владимиру Гау было повелено приступить к работе над портретами конногвардейцев непосредственно по окончании торжеств; в это время идея альбома была еще весьма аморфна.
Заметим, что из 86 своих акварелей В.И.Гау датировал лишь 9, созданных на начальной стадии работы над альбомом, причем три портрета были написаны еще в 1846 г. (И.Д.Данилова, М.Башина и П.Якунина), а шесть - в 1847 г. (кн. Д.В.Васильчикова, П.А.Венгерского, кн. Н.И.Дондукова-Корсакова, бар. Е.Ф.Мейендорфа, гр. К.В.Нессельроде и гр. П.П.Палена). Таким образом, в число девяти наиболее ранних акварелей входят восемь из четырнадцати портретов конногвардейцев, служивших при Павле Петровиче, и один из четырех портретов полковых командиров (бар. Е.Ф.Мейендорфа). Это дает основания предполагать, что поначалу император Николай I пожелал запечатлеть своих «сослуживцев» по Конной Гвардии первого периода его шефства над нею (1796-1800); затем к их изображениям решено было присоединить портреты полковых командиров.
К.К.Пиратский был привлечен к работе над альбомом несколькими месяцами позднее, чем В.И.Гау. «Апреля 11 дня 1847 года, - сообщает Пиратский в отчете министру двора кн. П.М.Волконскому, - Его Императорскому Величеству, Государю Императору, благоугодно было почтить меня доверием, и лично приказать мне составить и написать акварелью пять картин в группах, изображающих полное обмундирование и вооружение Л.-Гв. Конного полка в пешем и конном строях, с портретами в миниатюре: Его Императорского Величества, Его Высочества Государя Наследника Цесаревича и Его высочества Великого Князя Константина Николаевича, также Гг. Генерал-Адъютантов, в Л.-Гв.Конном полку состоящих, штаб- и обер-офицеров, и весь унтер-штаб с нижними чинами всех званий» 12 .
Еще через несколько месяцев, в последние дни 1848 или первые дни 1849 г. Владимиру Гау передали высочайшее повеление «составить портреты и дам» - супруг генералов и офицеров Л.-Гв. Конного полка; художник просил уточнить: «в каком костюме приказано будет изобразить их: в закрытых или вырезных платьях или в русском одеянии». В отношении от 7 января 1849 г. министр двора кн. П.М.Волконский пояснил «господину живописцу Гау», что «Его Величеству угодно иметь из портретов супруг генералов, штаб- и обер-офицеров сего полка только портрет супруги командира, генерал-майора Ланского, предоставляя ей самой выбор костюма» 13 .
9 ноября 1849 г. кн. П.М.Волконский потребовал представить ему справку, оплачен ли труд В.Гау и К.Пиратского, и, «буде нет, то узнать, сколько каждый из них написал портретов и рисунков, и какую полагает за них плату».
К.Пиратский рапортовал 14 ноября 1849 г. о приведении им к окончанию всех пяти картин и испрашивал за них «не более 1250 рублей серебром» 14 . Этим же числом датирован счет за исполнение сафьянового переплета с патентованным замком (70 рублей) и бронзовых украшений (160 рублей), представленный в канцелярию Министерства двора из мастерской Й.К.Лауферта (J . C . Lauffert ), занимающегося переплетными работами, изготовляющего визитные карточки и разного рода билеты 15 . Одновременно доставил в канцелярию Волконского список своих работ и В.Гау, доносивший, что, кроме оплаченных ранее 30 портретов, он исполнил еще 48. Каждый портрет был оценен автором в 58 рублей серебром 16 . Счета В.И.Гау, К.К.Пиратского и Й.К.Лауферта были незамедлительно оплачены 17 .
Позднее В.И.Гау исполнил еще восемь портретов 18 . В конце 1849 г. или в 1850 г. Николай I поручил Карлу Пиратскому «составить и написать <…> еще две таковые же картины в дополнение к предыдущим <…> изображающие форму одежды Л.-Гв. Конного полка в царствование императора Павла Петровича». С новым заданием художник справился к 1 марта 1851 г. 19
По-видимому, эта дата ознаменовала собою окончание работы над альбомом; он был водворен в Зимний дворец и, по-видимому, стал своего рода образцом, по которому создавался альбом Л.-Гв. Измайловского, а впоследствии Л.-Гв. Гусарского и других полков. В послереволюционные годы альбом Конной Гвардии привлекал к себе внимание преимущественно благодаря находящемуся в нем портрету Н.Н.Ланской; этот портрет и предопределил дальнейшую судьбу альбома: в 1928 г. он был передан из Эрмитажа на постоянное хранение в Институт русской литературы - Пушкинский Дом.
Между тем этот альбом представляет интерес отнюдь не только для пушкинистов. Он привлекал к себе неизменное внимание посетителей грандиозной временной выставки «Л.-Гв. Конный полк», открывшейся 5 ноября 1992 г. в Центральном выставочном зале - бывшем Конногвардейском манеже. Однако и эта выставка сделала достоянием широкой публики лишь сам факт существования альбома, но не его содержание. Настоящая публикация имеет целью первое ознакомление читателей «Нашего наследия» с этим уникальным художественным и историческим памятником.
Репрезентативный выбор чинов Лейб-Гвардии Конного полка
Художник В.И.Гау:
Его Императорское Величество
Государь Император Николай Павлович.
Великий князь Николай Павлович был назначен полковником Л.-Гв. Конного полка в младенчестве и числился его шефом с 7 ноября 1796 по 28 мая 1800г. 25 июня 1831 г. Николай I вернул себе звание шефа Л.-Гв. Конного полка; По восшествии на престол он принял звание полковника всех полков Гвардии. Звание шефа Л.-Гв. Конного полка Николай I вернул себе 25 июня 1831 г.; шефом конногвардейцев он оставался до смерти, последовавшей 18 февраля 1855 г. Государь шефствовал также над Л.-Гв. Подольским Кирасирским полком, Л.-Гв. Егерским полком и над 1-м Кадетским Корпусом.
Император Николай I изображен в кирасе поверх колета генерала Конной гвардии, с лентами орденов св. Андрея Первозванного (поверх кирасы) и св. Владимира I класса (поверх колета, под кирасой), с орденом св. Георгия IV класса за двадцатипятилетнюю выслугу в офицерских чинах (1838). Правее, на ленте василькового (kornblumenblau ) цвета - прусский Знак отличия за 25 лет выслуги в офицерских чинах, учрежденный 18 июня 1825 г. Фридрихом Вильгельмом III ; этим знаком было отмечено 25-летие шефства императора Николая I в 6-м Кирасирском полку прусской армии 20 . Этот крест исполнялся из золоченой бронзы; но знак, изготовленный для императора Николая, был отчеканен в золоте 21 . Наряду с этим крестом грудь Николая Павловича украшает медаль «За турецкую войну» и два знака из многочисленных иностранных орденов, которыми обладал император.
Князь Ларион Васильев Васильчиков,
родился 1777 года. В службу вступил 1793 года.
Изображен в сюртуке с генерал-адъютантскими эполетами и аксельбантом; в соответствие с правилами ношения орденов на сюртуке орден св. Георгия II класса, полученный И.В.Васильчиковым 17 января 1814 г. за отличие в сражении при Бриенне, обозначен лишь шейным крестом, без звезды.
Илларион Васильчиков еще в отрочестве был зачислен в Л.-Гв. Измайловский полк, но службу начал вахмистром в Конной Гвардии и был произведен в офицеры шестнадцати лет (1 января 1793 г.); в двадцать два года он достиг чина ротмистра (21 апреля 1799 г.), а еще через месяц Павел I пожаловал его в действительные камергеры. В наполеоновских войнах И.В.Васильчиков прославился как храбрый боевой генерал; в 1817-1821 гг. он командовал Гвардейским корпусом. При вступлении на престол Николай I пожаловал ему графское, а впоследствии (1839) и княжеское достоинство; он сделал его главным инспектором всей кавалерии (с 1833), а в 1838 г. назначил председателем Государственного Совета и Комитета министров.
7 ноября 1846 г. в связи с пятидесятилетием шефства государя над Л.-Гв. Конным полком кн. И.В.Васильчиков был вновь зачислен в Конную гвардию. Однако в торжествах он участия не принял по болезни; через три с половиной месяца, 21 февраля 1847 г., кн. И.В.Васильчиков скончался.
Ярко характеризует Иллариона Васильевича эпизод, связанный с его назначением председателем Государственного Совета: «Муж чести и правды, бойкий кавалерист, гусар, витязь битв с Наполеоном, он пользовался таким уважением, что был удостоен одним из высших в государстве званий, -- вспоминает гр. В.И.Соллогуб. - Вот как он к этому отнесся. Матушка встретила его у М.А.Нарышкиной и поздравила его с назначением. - Вам-то хорошо, - отвечал он печально, - а мне-то каково. Всю ночь я не мог заснуть ни минуты. Боже мой! До чего мы дожили, что на такую должность лучше меня никого не нашли» 22 .
Генерал от кавалерии, генерал-адъютант
Граф Петр Петрович фон дер Пален,
родился 1777 года, в службу вступил 1792 года,
Лейб-Гвардии в Конный полк вступил 1798 года.
Изображен в доломане Сумского гусарского полка, шефом которого числился, с орденами св. Андрея Первозванного, св. Георгия II класса, полученного в 1814 г. за взятие Парижа, звездой ордена св. Владимира и знаками ордена Virtuti Militari ; с медалями «В память Отечественной войны 1812 г.», «За взятие Парижа» и др.
Гр. П.П. фон дер Пален был зачислен в Конную Гвардию тринадцати лет и через два года произведен в ротмистры с назначением в Оренбургский драгунский полк (1 января 1792). 27 сентября 1798 г. Пален был вновь определен в Л.-Гв. Конный полк с чином подполковника, но менее чем через две недели вышел в отставку полковником (9 октября 1798 г.). Годом позднее он вновь вступил в службу; 18 сентября 1800 г. Павел I произвел двадцатидвухлетнего Петра Палена в генерал-майоры и назначил его командиром Каргопольского драгунского полка. Этот день стал началом его карьеры блестящего кавалерийского начальника, со славой участвовавшего почти во всех войнах александровского и николаевского царствований. «Если разрушится вселенная, в развалинах своих погребет его неустрашенным», -- сказал о нем в своих записках словами Горация А.П.Ермолов. В 1835 г. гр. фон дер Пален был назначен послом во Франции; столь же тверд и неуклонно-последователен он был и на этом посту, позволяя себе противоречить императору, если его представления о достоинстве России расходились с мнениями государя.
30 марта 1849 г. император Николай I отдал приказ о зачислении Палена в Конный полк, а 25 марта 1862 г. Александр II назначил гр. П.П. фон дер Палена шефом Пятого резервного эскадрона Конной Гвардии.
Максим Башин
родился 1762 года, в службу вступил 1782 года,
Изображен в мундире отставного унтер-офицера, с медалью «За усердие».
Максим Башин был с детства приписан к Конногвардейскому конному заводу в селе Починки (Саранского уезда Шацкой провинции Воронежской губернии); двенадцатилетним подростком он попал в плен к пугачевцам, совершившим набег на это село. Впоследствии М.Башин служил в Л.-Гв. Конном полку и вышел в отставку унтер-офицером; в 1846 г. он числился счетчиком при Экспедиции заготовления Государственных бумаг.
Наряду с другим ветераном, рядовым Петром Якуниным, как и он находившимся в полку 7-го ноября 1796 г. (в день назначения великого князя Николая Павловича шефом Конной Гвардии), Максим Башин был удостоен золотой медали «За усердие»; император пожаловал обоим по 150 рублей серебром.
Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич
Великий Князь Александр Николаевич,
Великий князь Александр Николаевич, впоследствии император Александр II изображен в красном конногвардейском вицмундире с генерал-адъютантскими эполетами и аксельбантом; с лентой и звездой ордена Андрея Первозванного, звездой ордена св. Владимира и знаком гессенского ордена Людвига: 16 апреля 1841 г., накануне своего дня рождения, Александр Николаевич женился на принцессе Марии Гессенской, дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига II .
16 апреля 1841 г. император Николай I повелел наследнику цесаревичу состоять «во всех тех полках, которых шефом изволит быть государь император». По вступлении на престол, 19 февраля 1855 г., император Александр II принял звание шефа Л.-Гв. Конного полка.
Генерал от кавалерии, генерал-адъютант
граф Алексей Федоров Орлов,
родился 1786 года, в службу вступил 1804 года
Изображен в красном конногвардейском вицмундире, с генерал-адъютантскими эполетами и аксельбантом; с лентой и звездой ордена св. Андрея Первозванного, звездой ордена св. Владимира I класса, звездой и крестом ордена св. Александра Невского, знаком ордена св. Георгия IV класса, медалями «В память Отечественной войны 1812 г.», «За взятие Парижа» и «За Турецкую войну», Знаком отличия беспорочной службы, Кульмским крестом, двумя иностранными орденами и медалью.
Граф, впоследствии князь, А.Ф.Орлов - военный и государственный деятель, одаренный дипломат -- принадлежал к числу наиболее видных фигур николаевского царствования. Начав в 1801 г. службу в Иностранной коллегии, Алексей Орлов определился в 1803 г. в Л.-Гв. Гусарский полк юнкером, участвовал в кампаниях 1805 и 1807 гг. и дослужился в нем до штабс-ротмистра. Этим чином он был переведен в 1809 г. в Конную Гвардию и назначен адъютантом к великому князю Константину Павловичу; участвовал в кампаниях 1812, 1813 и 1814 гг.
Алексей Орлов был храбр и обладал богатырской силой; при Бородине под ним была убита лошадь, и ему пришлось отбиваться палашом от четырех наседавших на него польских улан, нанесших ему несколько ран пиками. По окончании наполеоновских войн Орлов вышел в отставку в звании полковника, но через год вновь вступил в службу (1815), в 1816 г. был пожалован флигель-адъютантом, а в 1817 г. произведен в генерал-майоры. С 16 августа 1819 -г. по 21 апреля 1828 г. А.Ф.Орлов командовал Л.-Гв. Конным полком. 14 декабря 1825 г. Конная Гвардия первой из верных Николаю Павловичу частей вышла на Сенатскую площадь; 25 декабря Орлов был возведен в графское достоинство.
После смерти гр. А.Х.Бенкендорфа Алексей Федорович без колебаний принял должность шефа жандармов и начальника III Отделения собственной Е.И.В. канцелярии, однако лично политическим сыском не руководил, передоверив это малопочтенное дело Л.В.Дубельту. По окончании Крымской войны гр. А.Ф.Орлов с успехом отстаивал интересы России на Парижском конгрессе (1856); в 1857 г. император Александр II пожаловал ему титул князя. В конце 1850-х гг. у кн. А.Ф.Орлова проявились признаки душевной болезни. По свидетельству современника, «в старости ум его ослабел, память ему изменила, и он находился в состоянии, близком к помешательству» 23 . Кн. А.Ф.Орлов скончался в Петербурге 9 мая 1861 г.
Генерал-майор Петр Петрович Ланской,
родился 1799 года, в службу вступил 1818 года
Изображен в конногвардейском колете с орденами св. Владимира III класса, св. Анны II класса с Императорской короной, Станислава II класса, св. Георгия IV класса за выслугу, Знаком отличия беспорочной службы за 25 лет и знаками прусского ордена св. Иоанна Иерусалимского.
П.П.Ланской начал службу в кавалергардах; первый офицерский чин Петр Петрович получил 25 июня 1818 г.; тридцати пяти лет он был пожалован во флигель-адъютанты (23 апреля 1834) и произведен в полковники (6 декабря 1834). Однако производства в генералы Ланскому пришлось ждать более восьми лет: оно последовало 10 апреля 1843 г. «за отличие по службе». Более года Ланской «состоял при Гвардейском корпусе» без определенной должности в ожидании вакансии. По-видимому, назначение превзошло все его ожидания. «Он имел основание ожидать скорого назначения командиром армейского полка в каком-нибудь захолустье <…> -- пишет в своих записках его дочь А.П.Арапова (1845-1919), - как вдруг ему выпало негаданное, можно даже сказать, необычайное счастье. Особым знаком царской милости явилось его назначение прямо из свиты командиром Л.-Гв. Конного полка, шефом которого состоял государь» 24 . Это назначение состоялось 9 мая 1844 г. В звании генерал-майора и генерал-адъютанта (с 3 апреля 1849 г.) Ланской командовал полком до 1853 г., когда был отчислен от должности командира Конной Гвардии с одновременным производством в генерал-лейтенанты; в 1856 - 1861 гг. он командовал 1-й Гв. Кавалерийской дивизией. П.П.Ланской скончался семидесяти восьми лет, 6 мая 1877 г.
Супруга командующего Л.-гв Конным полком
генерал-майора Петра Петровича Ланского,
Наталья Николаевна Ланская.
Портрет Натальи Николаевны был написан В.Гау между 7 января и 19 ноября 1849 г. Этот портрет не был ни первым, ни единственным портретом Натальи Николаевны, исполненным В.И.Гау. При этом, как отмечает современный исследователь, «можно предположить, что именно император заказывал и оплачивал все портреты Натальи Николаевны, написанные Гау в 1841-1844 годах» 25 .
Наталья Николаевна Пушкина, рожденная Гончарова, вступила в свой второй брак с П.П.Ланским 16 июля 1844. Общеизвестно, что государь был неравнодушен к красоте Натальи Николаевны; ее брак с П.П.Ланским вызвал поэтому множество кривотолков. 28 мая 1844 г. М.А.Корф записал: «Мария-Луиза осквернила Ложе Наполеона браком своим с Неем. После семи лет вдовства вдова Пушкина выходит за генерала Ланского… В свете тоже спрашивают: «Что вы скажете об этом браке?», -но совсем в другом смысле: ни у Пушкиной, ни у Ланского нет ничего, и свет дивится только этому союзу голода с жаждою. Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых Государь удостаивает иногда своим посещением. Шесть недель назад он тоже был у нее, и вследствие этого визита или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначен командиром Конногвардейского полка, что по крайней мере временно обеспечивает их существование, потому что, кроме квартиры, дров, экипажа и проч., полк, как все говорят, дает тысяч до тридцати годового дохода…» 26 . Известно, что государь вызывался быть посаженным отцом при венчании Пушкиной с Ланским, но Наталья Николаевна уклонилась от этой чести 27 . Император Николай прислал ей в подарок фермуар; по-видимому, он и изображен на шее Н.Н.Ланской на портрете В.И.Гау 28 .
Несмотря на пересуды, второе замужество Натальи Николаевны было счастливым; Ланские в согласии прожили без малого двадцать лет.
Флигель-Адъютант Ротмистр Иван Васильев Анненков,
родился 1813 года, в службу вступил 1833 года
Изображен в конногвардейском колете с флигель-адъютантскими эполетами и аксельбантом; с орденом Станислава III класса.
И.В.Анненков был выпущен в корнеты Конной Гвардии 8 ноября 1833 г. из Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. 12 ноября 1840 г. он был назначен полковым адъютантом, а в следующем году произведен в ротмистры. В день пятидесятилетия шефства императора над Конной Гвардией, 7 ноября 1846 г., государь пожаловал Ивана Анненкова во флигель-адъютанты.
И.В.Анненков состоял в полку до 1851 г. В дальнейшем он служил вице-директором инспекторского департамента Военного министерства, начальником 1-го округа Корпуса жандармов, петербургским полициймейстером и, наконец, столичным комендантом. Он окончил свою карьеру в звании генерал-адъютанта и генерала от кавалерии. Брат известного критика и пушкиниста П.В.Анненкова, Иван Васильевич и сам не был лишен литературного дара; его перу принадлежит «История Л.-Гв. Конного полка, от 1731 до 1848 г.», в четырех частях, с атласом на 25 листах, вышедшая в свет в 1849 г.
Флигель-адъютант, Ротмистр князь Владимир Дмитриев Голицын,
родился 1815 года, в службу вступил 1835 года
Изображен в свитском мундире с флигель-адъютантскими эполетами и аксельбантом, с орденом св. Владимира IV класса с бантом.
Владимир Дмитриевич родился в Петербурге, в семье светлейшего князя Д.В.Голицына, впоследствии московского генерал-губернатора. Получив домашнее образование, выдержал в Пажеском корпусе офицерский экзамен и 16 февраля 1836 г. произведен в корнеты Конной Гвардии. В 1842 г. в чине штабс-ротмистра кн. В.Д.Голицын был прикомандирован к кавказскому корпусу. В боях с горцами он заслужил орден св. Владимира IV степени с бантом. 6 апреля 1844 г. кн. В.Д.Голицын был пожалован во флигель-адъютанты, а 6 декабря того же года - в ротмистры. В дальнейшем карьера Д.В.Голицына складывалась столь же успешно. В 1853 -1855 гг. он командовал Кирасирским Военного ордена полком, а 27 декабря 1855 г. был назначен командиром Конной Гвардии. В этой должности он оставался до 1864 г., когда получил повеление командовать 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией. Кн. В.Д.Голицын завершил свою карьеру обер-шталмейстером, генерал-адъютантом, генералом от кавалерии; последней его наградой стало назначение шефом 4-го эскадрона Л.-Гв. Конного полка. По свидетельству кн. А.В.Мещерского, кн. В.Д.Голицын отличался редкой добротой, честностью и прямотой. К нижним чинам он относился всегда очень гуманно; солдаты эскадрона, шефом которого он состоял, ежегодно получали от него награды. В своем имении он устроил больницу, училище и приют. Кн. В.Д.Голицын скончался 21 февраля 1888 г.; он был погребен в конногвардейской Благовещенской церкви.
Флигель-адъютант, Штаб-Ротмистр
Князь Виктор Ларионов Васильчиков,
родился 1820 года, в службу вступил 1839 года
Изображен в свитском мундире, с флигель-адъютантскими эполетами и аксельбантом, с орденом св. Анны III класса с бантом и 5 иностранными орденами.
Кн. Виктор Васильчиков, сын председателя Государственного Совета, отмечен всеми знаками блестяще начатой карьеры: в 26 лет он достиг звания штабс-ротмистра, пожалован во флигель-адъютанты (1844) и удостоен не только боевого ордена за отличие в сражениях против горцев (1843), но и многочисленных иностранных наград. Время показало, что этой карьерой кн. В.И.Васильчиков был обязан личным достоинствам, а не заслугам отца. Во время Крымской войны в должности начальника штаба Севастопольского гарнизона он являл чудеса мужества и распорядительности. Когда П.С.Нахимову попеняли на то, что он подвергает себя чрезмерной опасности, адмирал, нахмурившись, ответил: «Не то вы говорите-с; убьют-с меня, убьют-с вас, это ничего-с, а вот если израсходуют князя Васильчикова - это беда-с: без него несдобровать Севастополю» 29 . Кн. В.И.Васильчиков покинул пылавший город в числе его последних защитников; за оборону Севастополя он был награжден орденом св. Георгия III класса (6 июля 1855). Генерал-майор В.И.Васильчиков вышел в отставку в 1867 г.
Доктор Статский Советник Филипп Яковлев Карелль,
родился 1806 года, в службу вступил 1832 года
Изображен в мундире классного чиновника военного ведомства, с орденами св. Владимира III класса и св. Анны II класса с Императорской короной.
Филипп Яковлевич Карелль получил медицинское образование в Дерптском университете. 16 мая 1832 г. ему была присвоена степень доктора медицины и 7 июня того же года он начал службу батальонным лекарем в Л.-Гв. Гренадерском полку. 28 ноября 1834 г. Ф.Я.Карелль поступил в Конную гвардию; 2 мая 1838 г. он был утвержден в должности полкового лекаря и до конца жизни возглавлял госпиталь Л.-Гв.Конного полка. В 1849 г. его произвели в лейб-медики, в 1856 г. - в действительные статские советники, а в 1867 г. - в тайные советники. Ф.Я.Карелль первым ознакомил русских врачей с наложением крахмальной повязки при переломах костей, ввел и разработал систему молочного лечения (его трактат о лечении молоком был переведен на все европейские языки). Филипп Яковлевич Карелль был организатором санитарных рот в русской армии и одним из основателей Общества Красного креста.
[Протоиерей Алексий Васильевич Ляшкевич]
Родился 1782 года, в священнослужительском звании с 1806 года,
Лейб-Гвардии в Конном полку с 1837 года
Изображен с наперсным крестом-распятием, наградным наперсным крестом в память войны 1812 г. на владимирской ленте (учрежден 30 августа 1814; выдавался в 1818--1829 гг. священникам, состоявшим в священническом сане до 1 января 1813) и орденом св. Анны. А.В.Ляшкевич был пожалован также особыми священническими наградами - скуфьей и камилавкой.
Отец Алексий поступил в Конную гвардию 10 апреля 1837 г. из Лейб-Кирасирского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка и служил в ней без малого четверть века. 5 ноября 1861 г. старый полковой священник был переведен в церковь бывшего Придворного госпиталя; он скончался 26 апреля 1867 г. восьмидесяти пяти лет от роду.
Групповые портреты Лейб-Гвардии Конного полка
Художник К.К.Пиратский:
Император Николай I среди конногвардейцев в расположении полка. 1847
На акварели изображена кавалькада, выезжающая на Сенатскую площадь с Конногвардейского бульвара, проложенного вдоль манежа и казарм Л.-Гв. Конного полка, давших ему свое имя. В центре композиции запечатлен император Николай. Слева от него - наследник Александр Николаевич, отдающий отцу честь. За ними следуют командир полка генерал-майор П.П.Ланской и полковник Н.П.Хрущов; на заднем плане - поручик П.А.Дурново и флигель-адъютант, ротмистр И.В.Анненков. Кавалькада, замыкающаяся бравым денщиком - кавалером Знака отличия ордена св. Анны, проезжает мимо группы беседующих конногвардейцев, в числе которых изображены флигель-адъютант, ротмистр гр. Г.Ц.Крейц (в профиль, слева) и поручик П.П.Альбединский (верхом).
Акварель К.К.Пиратского, несомненно, была призвана не только увековечить образы конногвардейских офицеров, но и продемонстрировать варианты их парадной и праздничной форм. Император, полковник Хрущов и поручик Альбединский изображены в полной парадной форме - в золоченых кирасах поверх колетов и с объемными золочеными двуглавыми орлами на латунных касках, введенных 2 февраля 1846 г. Великий князь Александр Николаевич, Ланской, Дурново и Анненков одеты в красные вицмундиры и употреблявшиеся с ними кожаные каски с волосяными султанами. В группе с гр. Крейцем (он в колете без кирасы) и Альбединским - два офицера, на одном из которых красный вицмундир, показанный со спины, а на втором - красный суконный супервест, введенный в 1841 г. для офицеров и нижних чинов Кавалергардского и Конного полков, наряжавшихся во внутренние караулы императорских дворцов в торжественные дни, во время высочайших выходов.
Нижние чины Конной Гвардии со штандартом и литаврами
На первом плане изображены унтер-офицер со штандартом и литаврщик, в особом расшитом мундире с эполетами с бахромой, которые были присвоены у кирасир лишь литаврщику и штаб-трубачу.
В 1846 г. Конная Гвардия ходила под штандартами, пожалованными ей еще в царствование императора Александра I . После битвы при Аустерлице, в которой конногвардейцы отняли батальонное знамя у 4 линейного полка французской армии, государь даровал Л.-Гв. Конному полку штандарты «с означением на них самого подвига». С этими штандартами Конная Гвардия дошла до Парижа. Однако еще в Дрездене в апреле 1813 г. Александр I объявил о награждении Л.-Гв. Конного полка наряду с другими полками гвардейской кавалерии новыми - Георгиевскими -штандартами. Волею судеб это намерение императора осуществилось много позднее. Три Георгиевских штандарта (по одному на каждый дивизион, состоящий из двух эскадронов) были дарованы Конной Гвардии лишь в 1817 г.: 12 марта в Георгиевской зале Зимнего дворца состоялась церемония прибивания Штандартов к древкам; на следующий день, 13 марта, в третью годовщину битвы при Фер-Шампенуазе, штандарты были торжественно освящены. По восшествии на престол, император Николай I подтвердил права Конной Гвардии на эти штандарты, а в 1838 г. пожаловал ей новое отличие: полотнища штандартов были украшены орденскими лентами, а древки - скобами с мемориальными надписями.
Литавры были пожалованы Карлом XII его Лейб-Регименту, отличившемуся в битве с соединенными польско-саксонскими силами под предводительством Августа II под Клишово в 1702 г. Однако в Полтавском сражении они были взяты в качестве трофеев Киевским драгунским полком. Тем не менее Петр Великий этими трофейными литаврами наградил «генерал-фельдмаршала светлейшего князя А.Д.Меншикова Генеральный или Лейб-Шквадрон». В 1721 г. преемником Лейб-Шквадрона стал Кроншлотский драгунский полк, переименованный в 1725 г. в Лейб-Регимент. Последний, в свою очередь, в 1730 г. был преобразован Анной Иоанновной в Конную Гвардию, унаследовавшую от своих предшественников жалованные литавры. Однако их история была уже забыта, и их сдали в полковой арсенал, откуда их передали на хранение в придворную Преображенскую церковь в Стрельне. Там на них обратил свое внимание император Николай I , по повелению которого 4 июля 1827 г. старинные литавры были возвращены в полк, заменив собою литавры, пожалованные полку Анной Иоанновной в 1731 г. К этому времени их история стала уже достоянием преданий, и конногвардейцы считали, что в Полтавской битве их легендарные литавры отбил у шведов Лейб-Шквадрон -- прадед Конной гвардии 30 .
Штандарты и литавры Конной Гвардии хранились в Зимнем дворце, когда полк стоял в Петербурге, и в Большом Петергофском дворце, когда полк находился в Стрельне.
Офицеры Конной гвардии в Петергофе
Местом летней дислокации Конной Гвардии служила Стрельна, соседствующая с Петергофом, и Л.-Гв. Конный полк составлял петергофский гарнизон. С 1802 г. во время «высочайшего присутствия» императорской фамилии Конная Гвардия постоянно занимала караулы в Петергофе наряду с другими расквартированными там кавалерийскими полками. Когда эти полки уходили в Красносельский лагерь, конногвардейцы несли караульную службу поочередно с кавалергардами, специально прибывавшими для этого в Петергоф. Очередность соблюдалась таким образом, чтобы ежегодно в день рождения своего шефа - императора Николая Павловича - в караул заступала Конная Гвардия (25 июня), а в день рождения императрицы Александры Федоровны караул наряжался от подшефного ей Кавалергардского полка (1 июля). К.К.Пиратский изобразил конногвардейских офицеров у Церковного корпуса Большого Петергофского дворца - у придворной церкви во имя Петра и Павла. На переднем плане стоят два бывших командира Конной Гвардии, получивших почетное право по-прежнему числиться в полку -- гр. А.Ф.Орлов и бар. Е.Ф.Мейендорф; рядом с ними - юный великий князь Константин Николаевич. Справа сзади к ним подъезжают полковник С.Н.Рейхель и флигель-адъютант, ротмистр И.В.Анненков. На втором плане слева - три обер-офицера верхами: неизвестный (обращенный к зрителю спиной), ротмистр Ф.И.Ильин и штабс-ротмистр гр. И.Г.Ностиц; к ним подошел полковник К.П.Клокачев. На заднем плане справа -- три пеших и два конных обер-офицера; портретными являются изображения лишь двух из них, обращенных лицом к зрителю, - ротмистров А.П.Хрущова (всадника в шинели) и П.П.Чичерина (опирающегося на палаш).
Конногвардейские офицеры изображены в городской и походной формах. Рейхель, Чичерин и безымянный пеший конногвардеец (крайний справа) - в колетах, но в касках без султанов. Орлов, Мейендорф и великий князь Константин одеты в темно-зеленые вицмундиры, а Клокачев, Ильин и два безымянных всадника (крайние слева и справа) - в сюртуки. При этом кираса могла быть надета поверх колета, как на Клокачеве, либо поверх темно-зеленого вицмундира, как на Ильине и Анненкове. За исключением гр. Орлова, держащего в руке шляпу с пышным плюмажем (шляпы с 27 января 1845 г. были оставлены лишь генералам), и безымянного обер-офицера в фуражке, все персонажи акварели носят кожаные каски с привинченными к ним «гренадами» - украшениями в виде пылающей гранаты, к которым крепился белый волосяной султан. Гренаду носили на каске при походной форме, гренаду с белым султаном - при «городской форме». Кроме холодного оружия конногвардейские офицеры располагали седельными пистолетами, и потому они носили в строю на перевязи через левое плечо лядунки - небольшие патронные сумки. Сочетание деталей военного костюма (султанов, шарфов, лядунок и пр.) с оружием (палашами или шпагами) регламентировалось сложными правилами. Так, со 2 июня 1830 г. офицерам Конного и Кавалергардского полков было повелено «носить при красных мундирах и шарфах палаши, а без шарфов шпаги, при вицмундирах и шарфах носить палаши, когда по службе следует быть в касках и с лядунками, а в других случаях, хотя бы и при шарфах употреблять только шпаги».
Нижние чины Конной Гвардии на летних квартирах
Л.-Гв. Конный полк ежегодно уходил в Стрельну с началом весны, и занимал не только самую мызу, но и окрестные деревни. Там Конная Гвардия оставалась до осени, покидая Стрельну только на период общего сбора войск в Красносельском лагере.
В Красном Селе полк располагался в слободах Павловской и Барташинской. Здесь он регулярно участвовал в полковых, бригадных и дивизионных конных учениях. Из Красного Села Конная Гвардия возвращалась в Стрельну, где нижним чинам предоставлялся четырехнедельный отдых.
На переднем плане К.К.Пиратский изобразил двух всадников. Ближайший к зрителю, гарцующий на вороной лошади, вооружен палашом и пикой с трехцветным желто-бело-темносиним флюгером, присвоенным Конной Гвардии, -- такими пиками были вооружены передние шеренги ее эскадронов. Рядом с ним, на серой в яблоках лошади едет трубач. За его спиной - одна из 22 наградных труб, пожалованных полку 30 августа 1814 г. императором Александром I . Внутренняя сторона их раструбов была украшена крестами Военного ордена св. Георгия и круговой надписью: «Фер-Шампенуаз».
Штатами Конной Гвардии, утвержденными 20 августа 1840 г., были предусмотрены должности 1-го штаб-трубача, 20-ти трубачей 1-го литаврщика, 25-ти музыкантов и 18-ти их учеников. В отличие от остальных конногвардейцев, трубачи, литаврщик и музыканты ходили не на вороных, а на серых лошадях. Колеты литаврщика и трубачей были расшиты желтой тесьмой. Кроме того, штаб-трубачу и литаврщику были присвоены эполеты с бахромой, тогда как остальные нижние чины носили погоны. Обмундирование нижних чинов Конной Гвардии, зафиксированное К.К.Пиратским, составляют колет, темно-зеленые рабочие куртки, шинели и серые рейтузы 31 , подшитые черными кожаными леями. На унтер-офицере и двух рядовых, объезжающих лошадь, мы находим фуражки -с номерами эскадронов на околышах: их носили вне строя.
Кроме пик и палашей на вооружении нижних чинов Конной гвардии состояли пистолеты - они были положены в это время вахмистрам, унтер-офицерам и трубачам; остальные были вооружены штуцерами (их было по 16 на эскадрон) и гладкоствольными карабинами.
Нестроевые чины Конной Гвардии
На акварели К.К.Пиратского слева представлены берейтор (преподаватель верховой езды) А.Н.Оттисен и ветеринарный помощник Д.М.Смаль-Поддубный, проверяющие ковку строевого коня. Этот конь выглядит гигантским. Для кавалергардов и конногвардейцев приобретались самые крупные и дорогостоящие лошади: для пополнения их постоянной убыли Конной Гвардии с 1843 г. ежегодно отпускалась «ремонтная сумма» на 96 лошадей по 675 р. ассигнациями за каждую. Для Л.-Гв. Конного полка покупались вороные лошади не старше 7 лет и не ниже 2 аршин 3 вершков ростом (156 см).
В центре изображены штаб-доктор (полковой начальник врачебной части) Ф.Я.Карелль - он в шляпе без плюмажа - и мл. доктор Г.Ф.Карлберг (в фуражке). В правление императора Николая I докторам Конной гвардии приходилось заботиться не столько об исцелении боевых ран своих соратников, сколько о предупреждении заболеваний. К концу польской кампании 1831 г. Конная Гвардия недосчиталась пятидесяти трех нижних чинов, хотя роль ее в этой войне свелась к маневрированию, и к кровопролитию она осталась непричастна… Доктор Карелль поступил в Конную гвардию в следующем году и сумел поставить медицинскую службу на образцовый уровень.
К.К.Пиратский запечатлел Филиппа Яковлевича беседующим с квартирмейстером Л.Ф.Забеком - офицером, ответственным за размещение полка и снабжение его продовольствием. Строевому Л.-Гв. Конного полка полагались в неделю две мясные порции, составляющие 1 фунт (400 г.) мяса (разумеется, за исключением постов - Великого, Успенского и Рождественского); в лагерное время прибавлялось еще по полфунта да по 3 чарки вина. Рацион конногвардейцев заметно скрашивали овощи, которые они сами выращивали на огородах «возле большого сада в Стрельне, по нижней дороге», - этими огородами еще в 1817 г. их наделил прежний шеф, великий князь Константин Павлович. Содержанию нижних чинов Конной Гвардии могли позавидовать не только их армейские, но и гвардейские собратья: не в пример другим, с 25 декабря 1825 г. солдатам-конногвардейцам, как и кавалергардам, выплачивались так называемые старшие оклады - особые прибавки к жалованью. Кроме того, на свадьбы и крестины рядовым по традиции выдавалось по 25, а вахмистрам - по 100 рублей; дочери нижних чинов обеспечивались приданым.
Несмотря на многочисленные преимущества, которыми конногвардейские нижние чины отличались перед армейскими кавалеристами, служба не была медом и для них. Как и в других полках, штат Конной Гвардии предусматривал должность аудитора - чиновника военного суда, делопроизводителя. Аудитор Л.-Гв. Конного полка М.К.Москалев изображен позади Л.Ф.Забека, справа.
Примечания
1 Название «Конная Гвардия» закрепилось за Л.-Гв. Конным полком с тех пор, когда этот полк был единственным гвардейским кавалерийским полком, и впоследствии употреблялось как имя собственное.
2 Анненков И.В. История Л.-Гв. Конного полка. 1731-1848. СПБ, 1849. Ч. 1. С. 326-332. Далее сведения, почерпнутые из этого обстоятельного издания, не оговариваются.
3 Манеж, сооруженный одновременно с Михайловским замком, был перестроен К.И.Росси в 1823-1824 гг. Ныне это здание переоборудовано в Зимний стадион.
5 Выражаю искреннюю признательность Т.А.Комаровой и всем ее коллегам из музея ИРЛИ за любезное содействие в работе над этой публикацией.
6 Впоследствии он получил звание академика (1849) и состоял придворным портретистом при императорах Александре II и Александре III .
7 В 1855 г. К.К.Пиратский возглавил рисовальное отделение Редакции военной хроники в ведомстве Военного министерства; в том же году ему присвоили звание академика, а в 1869 г. - профессора Академии художеств.
8 История Л.-Гв. Конного полка уже освещалась в «Нашем наследии» Борисом Кипнисом («Звание ему иметь Лейб-Регимент…» / Наше наследие. 1996, № 37. С. 109-117), поэтому мы ограничиваемся здесь самым кратким ее очерком.
9 Мануйлов В.А., Назарова Л.Н. Лермонтов в Петербурге. Л., 1984. С. 104-105; Казакова Н.А., Файбисович В.М. Мундир и судьба. / Герой и среда. Межвузовский сборник научных статей. Сыктывкар, 1989. С. 67.
10 На портрете кисти В.И.Гау Петр Васильевич Еремеев (р. 1807) запечатлен в мундире прапорщика гвардейских инвалидов, с медалью «За взятие Варшавы» и со знаком отличия польского ордена «Virtuti militari ». Судя по тому что в своем вполне зрелом возрасте П.В.Еремеев носит первое офицерское звание (средний возраст конногвардейских корнетов колебался от 18 лет до 21 года), он, несомненно, выслужился из нижних чинов, как и начальник его «четвертьроты» - знаменитый штабс-ротмистр И.Ф.Омельченко, захвативший при Аустерлице французское знамя (его портрета в альбоме нет). Заметим, что в Адрес-календаре на 1846 г. П.В.Еремеев значится прапорщиком, но в подписи под портретом он назван поручиком.
11 Беляев М.Д. Наталья Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников. СПБ: Библиополис, 1993. С. 65
12 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (939/102). Д. № 3. Л. 4.
13 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (939/102). Д. № 3. Л. 1, 2.
14 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (939/102). Д. № 3. Л. 4 об.
15 Мастерская (Magazin ) Лауферта размещалась в Петербурге, на Большой Морской, в доме № 28, бывшем Пеца.
16 2784 рубля причитались В.Гау не за все 78 портретов, исполненных им к концу 1849 г., как полагал М.Д.Беляев, а лишь за 48, написанных за время, прошедшее со дня оплаты первых 30 акварелей. Общий его гонорар за 86 листов должен был составить 4988 рублей серебром.
17 17 ноября высочайше повелено было оплатить эти счета из средств Кабинета. 19 ноября художникам были направлены уведомления об этом. - РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (939/102). Д. № 3. Л. 8, 9.
18 Говоря о 78 портретах, упомянутых В.Гау в его отчете Волконскому, М.Д.Беляев ошибается, утверждая, что «остальные, как это видно из подписей под ними, написаны еще в 1846 г. и лишь включены в альбом». Напомним, что три портрета датированы 1846 г. и шесть - 1847 г. Очевидно, эти девять акварелей входили в число тридцати, оплаченных в первую очередь.
19 РГИА. Ф. 472. Оп. 17 (939/102). Д. № 3. Л. 11. Гонорар К.К.Пиратского за семь акварелей составил в итоге 1750 рублей серебром - по 250 рублей за каждую «картину».
20 Король Фридрих Вильгельм III назначил великого князя Николая Павловича Шефом Бранденбургского кирасирского полка во время его визита в Берлин 3-22 апреля 1817 г.
21 Этот крест хранится в Государственном Эрмитаже. Считаю своим долгом засвидетельствовать свою благодарность М.А.Добровольской (ГЭ), которой обязан сведениями о прусском Знаке отличия за двадцатипятилетнюю выслугу в офицерских чинах
22 Соллогуб В.А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 363.
23 Там же. С. 440.
24 Вересаев В.В. Пушкин в жизни. / Соч. в 4-х т. М., 1990. Т. 3. С. 309.
25 Гаврилова Е.И. О забытом портрете Н.Н.Пушкиной. // Наше наследие. 1999, № 50-51. С.163
26 Новый мир. 1963, № 2. С. 226.
27 Сборник биографий кавалергардов. / Сост. под ред. С.А. Панчулидзева. Т. IV . СПБ., 1908. С. 334.
28 М.Д.Беляев отметил, что выбор туалета Н.Н.Ланской был «строго обдуман: белый и красный цвета кавалергардского обмундирования» (Беляев М.Д. Ук. соч. С. 66). С этим трудно не согласиться, если исправить ошибочно названное кавалергардское обмундирование на конногвардейское и добавить к цветам, обозначенным М.Д.Беляевым, полковые синий цвет (шейная лента и сапфировый фермуар) и золотой «металлический прибор» (шитый золотом узор на шейной ленте).
29 Фрейман О.Р. Пажи за 185 лет. Фридрихсгамн, 1895. С. 329
30 Никитин А.Л. Полтавская регалия // Орел. 1992, №1. С. 15-17
31 Обозначение цвета сукна, из которого шились рейтузы, весьма условно: этот цвет был иссиня-серым, и на своих акварелях К.К.Пиратский показывает его откровенно синим.
Без штыка с перевязью и двух пистолетов. Снаряжение и конский убор были аналогичны драгунским. Со времен императрицы Анны полк комплектовался преимущественно остзейскими (прибалтийскими) немцами .
Между 1931 и 1934 годами заключённый «шарашки » архитектор Н. Е. Лансере провёл реконструкцию манежа под гараж ОГПУ : был надстроен второй этаж с ведущими на него пандусами .
Начиная с 1967 года здание бывшего Конногвардейского манежа используется в качестве выставочного зала (Центральный выставочный зал «Манеж»).
Казармы
 Одновременно [
] с манежем строились здания полковых конюшен и казарм:
Одновременно [
] с манежем строились здания полковых конюшен и казарм:
- № 4 по Конногвардейскому бульвару (№ 3 по улице Якубовича, № 1 по Почтамтскому , № 2 по Конногвардейскому переулку). С 2008 года в этом здании находится Музей русской водки .
- № 6 по Конногвардейскому бульвару (№ 5 по улице Якубовича, № 1 по Конногвардейскому переулку, № 6 улице Труда (в те времена - Малая Луговая, после 1836 года, со строительством полковой церкви - Благовещенская).
Церковь
В 1844-1849 годах неподалёку от казарм, на Морском лугу, был возведён полковой храм - Благовещенская церковь . Здание в «русском стиле », построенное по проекту архитектора Константина Тона , было снесено вскоре после закрытия церкви в 1929 году под предлогом «стеснения трамвайного движения». Фундаменты, пещерный храм и некрополь были уничтожены в середине 1990-х годов при строительстве подземного торгового комплекса (в настоящее время - подземный переход под площадью Труда).
Известные конногвардейцы
Напишите отзыв о статье "Конный лейб-гвардии полк"
Примечания
Литература
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
- Анненков И. В.
Отрывок, характеризующий Конный лейб-гвардии полк
В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, бело ограничено, отделено от других канавой, – здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.
Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.
Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.
Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице короля на Бородино.
От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что то черное – вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.
Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.
Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.
Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.
Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.
С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютапты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он пореходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья.
Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.
Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжение о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат – стрелять, когда конных – топтать русских пеших, – все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Генералы Наполеона – Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.
Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.
– Подкрепления? – сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! – подумал Наполеон. – Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»
ПЕХОТА: НИЗШИЕ ЧИНЫ
Полевая униформа
низших чинов Пехоты имела традиционную и грубую шерстяную ткань, так называемая "шаячна ткань", которая имела желто-коричневый цвет, ее можно было принять за защитную. Воротник и обшлага были темно-синие с красным кантом, также он шел и по бокам штанов. Мундир имел шесть пуговиц и два нагрудных кармана с верхними клапанами. Фуражка - с черным козырьком, синим верхом и красным кантом по бокам, околышем по роду войск, а погоны были красные с номером полка.
В 1908 году была введена новая серо-зеленая униформа по тому же покрою. Эта модель была ограниченна в количестве и надевалась в основном только лишь на параде. В течение войны эта модель тоже использовалась, чтобы дополнить существующею нехватку. Основная форма одежды имела традиционную шаячную ткань, но с красным воротником, погонами и обшлагами. Штаны были также желтовато-коричневые с кантом. Фуражка была Российского образца - темно-синия с черным козырьком, и цветом по роду войск различимых по околышу и внешнему канту. Впереди имелась эллипсовидная кокарда с национальным флагом. Эту модель носили все рода войск, кроме артиллерии и кавалерии. Шефские Полки имели погоны и околыши на фуражках того приборного сукна которое было им присвоено по полкам, вензеля на погонах были также различны у Шефских полков. Этот тип униформы, хотя и был украшен яркими цветными погонами, воротниками и обшлагами, может быть принят как первая модель "хаки" в Мире.
Летняя униформа
всех родов войск состояла из серой длинной хлопковой рубахи со стоячим воротником и отворотом впереди. Она имела пять пуговиц. Фуражка была покрыта сверху из той же ткани, что и рубаха. Эта униформа носилась с зимними штанами и сапогами. Шинель у низших чинов была серо-бежевая, двубортная, с одним рядом по шесть пуговиц по середине. Различались также и петлицы на воротниках и погонах, показывающие род войск.
Зимняя униформа имела также шерстяную накидку (башлык). Длинные концы ее были скрещены на груди, которые подвешивали снизу к поясу или использовали их подобно платку обвязывав их вокруг шеи.
ПЕХОТА: ОФИЦЕРЫ
Офицерский состав имел нестроевую, парадную, строевую, и полевую униформу.
Нестроевая униформа
включала в себя сюртук темно-синего цвета, с двумя рядами по шесть пуговиц и воротник, который имел цвет рода войск. Штаны имели тот же самый цвет или были прямые серо-синие штаны, в зависимости от случая. Для балов надевался сюртук, на котором носили эполеты. Шинель серо-синяя с двумя рядами по шесть пуговиц и темно-синим воротником с петлицами и окантовкой по цвету рода войск, у Пехоты - красный. Карманы были прямые с верхними клапанами. 
Летняя униформа
была покороче и серого цвета. Верх фуражки был сделан из того же материала. Носилось два вида штанов. Офицеры носили серо-синие плащ-накидки с темносиним воротником и петлицами. Ношение сабли было обязательно!
Парадная униформа
носилась по особым случаям. Она включала в себя черную меховую шапку, в основании ее материал цвета приборного сукна. Впереди на ней был - золотой герб, а верх ее был перекрещен галунами, их количество и толщина зависело от звания офицера. При парадной форме разрешалось носить и фуражки. Мундир был темно-синий, двубортный с двумя рядами по шесть пуговиц. На воротниках были золотые галуны и катушки. Обшлага - красная и остроконечная и также с галунами. Носились эполеты и поясные шарфы. Позади имелось два кармана с клапанами. Брюки были из того же самого материала и носились они с сапогами.
ГЕНЕРАЛЫ
Генералы носили двубортный мундир с двумя рядами по шесть пуговиц. Вицмундир - с зигзагообразным галуном на красном или черном основании. Обшлаги были такие же, как в Пехоте, в Инженерных войсках и в Отделе Военного суда - прямые, а в Кавалерии, Артиллерии, Генеральном Штабе и в свите Его Величества - с острым концом. Шитье на мундире было в виде лавровых листьев (у Генерал-майоров были дубовые листья) на воротнике, обшлаге и задних карманах. Поясные шарфы, как и эполеты были с  бахромой. Офицеры Генерального Штаба носили мундиры генеральского типа с черным воротником и обшлагами, шитье было серебряными нитями и с листьями, также присутствовали и аксельбанты. Генеральский сюртук имел зигзагообразное шитье на воротнике и обшлаге. Шинель с красным воротником и подкладкой, кант на петлицах был также красного цвета. На правой стороне пальто была пущена красная полоса, также как на карманах. Шапка была из белого меха, впереди которой красовалась Александровская Звезда. Мундир (как строевая и полевая форма) был введен с №200/1899 года. Первоначальна масленисто-зеленового цвета со стоячим воротником и скрытыми застежками. Было четыре кармана, по два по бокам и на груди с остроконечными клапанами. Обшлаги были остроконечными. Носили синие штаны с кантом и сапоги. Фуражка была синяя. С №309/1905 года штаны и фуражка стали серо-зелеными. Летняя униформа
имела тот же самый покрой, но серого цвета, а зимой коричневого с использованием шаячного материала. Много авторов полагают, что эта униформа была введена в 1908 году после того как она была принята в Российской Армии, но это не так. В сущности, истина совершенна обратная, это пример тому как "студенты дали хороший урок их преподавателям". Это еще одно доказательство того, что у болгарских военных специалистов в области униформы существовали передовые идеи.
бахромой. Офицеры Генерального Штаба носили мундиры генеральского типа с черным воротником и обшлагами, шитье было серебряными нитями и с листьями, также присутствовали и аксельбанты. Генеральский сюртук имел зигзагообразное шитье на воротнике и обшлаге. Шинель с красным воротником и подкладкой, кант на петлицах был также красного цвета. На правой стороне пальто была пущена красная полоса, также как на карманах. Шапка была из белого меха, впереди которой красовалась Александровская Звезда. Мундир (как строевая и полевая форма) был введен с №200/1899 года. Первоначальна масленисто-зеленового цвета со стоячим воротником и скрытыми застежками. Было четыре кармана, по два по бокам и на груди с остроконечными клапанами. Обшлаги были остроконечными. Носили синие штаны с кантом и сапоги. Фуражка была синяя. С №309/1905 года штаны и фуражка стали серо-зелеными. Летняя униформа
имела тот же самый покрой, но серого цвета, а зимой коричневого с использованием шаячного материала. Много авторов полагают, что эта униформа была введена в 1908 году после того как она была принята в Российской Армии, но это не так. В сущности, истина совершенна обратная, это пример тому как "студенты дали хороший урок их преподавателям". Это еще одно доказательство того, что у болгарских военных специалистов в области униформы существовали передовые идеи.
ШЕФСКИЕ ПОЛКИ

Шефские полки - были элитой Армии, но в их униформах, можно было видеть очень много различий. В течение Балканской Войны их насчитывалось 18 Полков - Пехоты, Кавалерии и Артиллерии. Они имели каждый свое приборное сукно, характерное шитье на воротниках и обшлаге, и каждый свои вензеля на погонах.
В Пехоте существовали следующие Шефские полки:
| Полк | Приборное сукно | Канты | Вензель |
| 1-й Софийский Пехотный Его Высочества князя Александра Батенберга полк | Красный | Красный | А |
| 4-й Плевенский Пехотный Его Царского Высочества Престолонаследника Князя Бориса Тырновского полк | Желтый | Желтый | Б |
| 5-й Дунавский Пехотный Его Королевского Высочества Герцога Роберта Пармского полк | Красный | Красный | Р. |
| 6-й Тырновский Пехотный Его Величества полк | Белый | Белый | Ф |
| 8-й Приморский Пехотный Ее Царского Высочества Княгини Марии-Луизы полк | Голубой | Красный | М и Л. |
| 9-й Пловдивский Пехотный Ее Царского Высочества Княгини Клементины полк | Синий | Синий | К |
| 17-й Доростольский Пехотный Его Императорского Высочества Великого Князя Владимира Александровича полк | Малиновый | Малиновый | В |
| 18-й Етырский Пехотный Его Величества полк | Белый | Зеленый | Ф |
| 20-й Добруджанский Пехотный Его Царского Высочества Князя Кирилла Преславского полк | Синий | Красный | К |
| 22-й Тракийский Пехотный Его Королевского Высочества Карла Эдуарда Герцога Сакс-Кобург-Готского полк | Зеленоватый | Белый | К и Е |
| 24-й Черноморский Пехотный Ее Величества Царицы Елеоноры полк | Орнажевый | Оранжевый | Е |

АРТИЛЛЕРИЯ
Низшие чины Артиллерии носили, двубортные мундиры по семь пуговиц в два ряда, с черным воротником и обшлагами с красным кантом и погонами. Мундир коричневый, из шаячного материала, и фуражка с черным околышем. Петлицы на шинели также черные. В течение войны некоторые батареи носили неформальные белые меховые колпаки вместо фуражки. Офицеры имели черный воротник с красным кантом на их мундире, околыш на фуражке был также черного цвета. Шинель с черным воротником и петлицами с красной окантовкой.
Парадная униформа
включала черную шапку с красным основанием и золотым гербом впереди. Мундир - темно-синий с черным воротником и остроконечными обшлагами с пуговицами и красным кантом. Эполеты золотые на черном основании. Штаны имеют тот же самый цвет с красным кантом по бокам, а праздничные серо-синие. Офицеры Крепостной Артиллерии имели на погонах символ "K"
, а в Горной Артиллерии был символ - "П"
. Погоны Конной Артиллерии, подобно кавалерийским имели зигзаг, но с золотым галуном на красном основании и с красной окантовкой. Все Офицеры носили лядунки на позолоченном ремне через плечо. В Шефских Артиллерийских полках была такая же униформа, но отличие было то, что они имели вензеля на погонах. Такие полки как:
Офицеры Крепостной Артиллерии имели на погонах символ "K"
, а в Горной Артиллерии был символ - "П"
. Погоны Конной Артиллерии, подобно кавалерийским имели зигзаг, но с золотым галуном на красном основании и с красной окантовкой. Все Офицеры носили лядунки на позолоченном ремне через плечо. В Шефских Артиллерийских полках была такая же униформа, но отличие было то, что они имели вензеля на погонах. Такие полки как:
КАВАЛЕРИЯ

Мундиры солдат были сделаны из шаячного материала. У Офицеров была же ткань намного лучше. Цвет воротника, погон и обшлаг красный, и все опушено белым кантом. Фуражка как и в Пехоте, но с белым кантом. Погоны имеют серебряный галун с белым кантом и зигзаги на красном основании, 4-пиковые позолоченые звезды, также как и номер Полка.
Шефские кавалерийские полки:
У 4-го конного полка униформа была масленисто-зеленного цвета и приборный металл золотой. Офицеры носили лядунку через левое плечо, черного цвета с серебряным гербом на серебряном ремне с зигзагообразным рисунком.
ЛЕЙБ-ГВАРДИИ КОННЫЙ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛК
Униформа чинов Лейб-Гвардии Его Величества полка различалась от всех других кавалерийских полков.  Форма была гусарского типа, как парадная краповая, с темно-синими штанами, а строевая - темно-синия и носилась с краповой фуражкой. Шапка имела серый мех с красным основанием и поперечными галунами. Она имела серебряную чешую, этишкеты, Александровскую Звезду и султан в виде пера. Фуражка красная с белым кантом.
Форма была гусарского типа, как парадная краповая, с темно-синими штанами, а строевая - темно-синия и носилась с краповой фуражкой. Шапка имела серый мех с красным основанием и поперечными галунами. Она имела серебряную чешую, этишкеты, Александровскую Звезду и султан в виде пера. Фуражка красная с белым кантом.
Доломан был предназначен для парадов и для ношения ее при дворе и сделан он был из крапового сукна с серебристыми шнурами, по семь на стороне. Имелся серебряный зигзагообразный галун на воротнике и на рукавах. Погоны плетенные с металлическим окружением и звездами. Строевая униформа была темно-синего цвета, как и общеармейская, но с гвардейскими погонами и узором на воротнике, носилась она с фуражкой полностью крапового цвета. Походная форма
была общеармейского типа модели 1905 года, но с гвардейскими погонами и носилась с краповой фуражкой и темно-синими штанами. Шинель как и в других войсках, но с краповыми петлицами, золочеными пуговицами и вензелем "Ф"
с короной. Офицеры носили лядунку. Сапоги были с галуном и розеткой впереди.
Все остальные рода войск - инженеры, пионеры, понтонные, телеграфные и железнодорожные части - имели черный воротник с красной окантовкой, подобно Артиллерии, но с серебряными погонами и пуговицами. Покрой мундира был такой как и в Пехоте. На воротниках и погонах носили отличительные знаки (они представлены выше на рисунке). Военные медики имели малиновое приборное сукно, а ветеринарные службы - синие.
ФЛОТ
Офицеры Военно-морского флота имели очень темно-синию, почти черную по цвету униформу. Строевая
и парадная униформа
- мундир с открытыми отворотами и рубашка с черной ленточкой на шеи. Мундир был с двумя рядами по пять пуговиц, позолоченные с изображением якоря. Униформа носилась с прямыми штанами. При строевая форме - носились погоны, а на парадной носили эполеты и кортик с портупеей. Головным убором была либо фуражка, либо треуголка. Треуголка - черная, с шелковой кокардой в виде триколора, пуговицей и петлей, фуражка же была - темно-синия с черным околышем и белой окантовкой. Она имела черный лаковый ремешок и эллипсовидную кокарду. Шинель - как и в Пехоте, но темно-синего цвета, двубортная (с черным бархатным воротником) - у офицеров, и однобортная серая с черным воротником для моряков. Парадный мундир по покрою был генеральским, но темно-синим. Шитье имело якоря, веревки и листья. Носили треуголку, эполеты, шарф и палаш.
Парадный мундир по покрою был генеральским, но темно-синим. Шитье имело якоря, веревки и листья. Носили треуголку, эполеты, шарф и палаш.
В 1905 году офицерам вводят новую летний мундир со стоячим воротником и 5 пуговицами. Он имел два верхних грудных кармана и два боковых кармана. На фуражку был помещен белый чехол, штаны черные и прямые. На погонах и эполетах размещался вензель в виде буквы "Ф
".
Форма моряков состояла из "робы" носимой поверх прямых штанов, синея или белая в зависимости от сезона ее ношения. Также это относится и к бескозырке, на ее околыше имелась черная бархатистая лента. Впереди нее было написано имя корабля, или части в которой служил матрос. Кокарда находилась выше околыша.
Шинель носилась с сапогами. Матросы имели и рабочую вахтенную форму, из серого хлопка, покрой подобен "робе", но с меньшим воротником, в правой части ее был грудной карман. Бескозырка была сделана из того же материала что и "роба". Боцманы имели фуражку и двубортный мундир с мягким воротником, подобный тому какой носили ополченцы в 1877 году. В Военно-морском флоте как и в других родах войск имелись специальные нашивки о выслуге лет для унтер-офицеров. Они имели V
-образную форму и нашивались в верхней части рукава острым концом вверх.
КАДЕТЫ и ЮНКЕРА
Учащиеся в военно-морских училищах имели свою характерную униформу. Слушателей в кадетских классах военно-морских училищ отличал мундир из черного шаячного материала со скрытыми пуговицами, и карманами с клапанами на груди и по бокам. Воротник прямой, красный, обшит золотым галуном, обшлаги тоже красные с двумя пуговицами. Штаны длинные, черные с красным кантом по бокам. Шинель тоже черная, с одним рядом позолоченных пуговиц, погоны красные с вензелем - буквой "Ф
". Ремень - красный с позолоченной бляхой.
Слушателей в кадетских классах военно-морских училищ отличал мундир из черного шаячного материала со скрытыми пуговицами, и карманами с клапанами на груди и по бокам. Воротник прямой, красный, обшит золотым галуном, обшлаги тоже красные с двумя пуговицами. Штаны длинные, черные с красным кантом по бокам. Шинель тоже черная, с одним рядом позолоченных пуговиц, погоны красные с вензелем - буквой "Ф
". Ремень - красный с позолоченной бляхой.
Летняя униформа
имел мундир белого цвета по покрою как и зимний, но с нагрудными карманами. Фуражка была облачена в белый чехол, зимой была бескозырка - зеленная с красным околышем. При парадной форме
надевались белые рукавицы. Униформа юнкеров состоит из темно-зеленого мундира с двумя рядами позолоченных пуговиц расширяющихся к верху. Воротник прямой, красный, с широким золотым галуном. На рукавах имелся золотой галун и красные клапаны с тремя пуговицами. Штаны имеют тот же покрой как и артиллеристы и кавалеристы, носились они с сапогами. Шинель серая, подобно солдатской, но с золотыми пуговицами. Погоны красные, с вензелем - буквой "Ф
". Шапка черная, с золотым гербом, а фуражка как и кадетская.
Униформа юнкеров состоит из темно-зеленого мундира с двумя рядами позолоченных пуговиц расширяющихся к верху. Воротник прямой, красный, с широким золотым галуном. На рукавах имелся золотой галун и красные клапаны с тремя пуговицами. Штаны имеют тот же покрой как и артиллеристы и кавалеристы, носились они с сапогами. Шинель серая, подобно солдатской, но с золотыми пуговицами. Погоны красные, с вензелем - буквой "Ф
". Шапка черная, с золотым гербом, а фуражка как и кадетская.
Летняя униформа
- белый китель, двубортный, и шапка покрытая с чехлом. Вся униформа носилась с белыми перчатками. Студенты Школ Резервного Офицерского состава имеют униформу солдат с трехцветной шнуровкой на погонах. Летчики носили различные кожаные или меховые куртки, шлемы, собственного производства. Другие имели форму тех родов войск из которых перешли в авиацию.
ВООРУЖЕНИЕ
В мирное время Болгарская Армия насчитывала 9 дивизий в трех армейских зонах (армии). В количестве:
В случаи мобилизации их число возрастало до:
Вооружение состояло из:

Общее количество: 343 428.
Артиллерия:
Общее количество: 1116 орудия.
Авиация - от 21 до 35 самолетов. Разных типов - "Вуазен", "Альбатрос", "Ньюпор", "С-7" и имелось в наличии 2 баллона.
Морской Флот:
Литература:
- "Българската военна униформа: Балканската война 1912-13 г." // - Александър Въчков, 1996 Първо издание.

- Рядовой артиллерии в двубортном мундире с красными погонами, черным воротником и обшлагами.
- Подпоручик горной артиллерии в старой модели строевой формы масленисто-зеленого цвета и синих штанах. Экипирован кобурой от револьвера "Смит и Весон" №3 образца 1874 года. Вооружен 10.67 мм револьвером "Смит и Весон" №3 образца 1874 года и саблей.
- Подполковник в парадной форме с лядункой, вооружен саблей.
- Подпоручик запаса в зимней форме - шинели. Экипирован поясным шарфом и кобурой от револьвера "Смит и Весон" №3 образца 1874 года. Вооружен 10.67 мм револьвером "Смит и Весон" №3 образца 1874 года и саблей.
- Рядовой артиллерии в зимней форме - шинели и неформенным головным убором.

- Генерал-лйтенант М.Савов в праздничной форме - сюртуке с зигзагообразным шитьем на воротнике и обшлаге, оканым по краю, с аксельбантами, вооружен саблей.
- Генерал Георгий Вазов из Генерального Штаба - характерное серебряное шитье на воротнике и обшлаге, аксельбанты, шарф и белая шапка с Александровской Звездой впереди. Вооружение парадное - шпага.
- Генерал от инфантерии Данаил Николаев в парадной форме - шитье на воротнике и обшлаге в виде лавровых листьев, на нем эполеты, аксельбанты и шарф. Вооружение парадное - шпага.
- Генерал-майор Ст.Ковачев в зимней строевой форме, генеральская шинель с красным воротником и подкладом, и кантом по бокам.
- Генерал-лейтенант от артилерии Никола Иванов в летней нестроевой форме, китель как офицерский, но обязательно с аксельбантами.
- Генерал-лейтенант Радко Дмитриев в строевой форме - околыш на фуражке красный, аксельбанты и генеральские лампасы на штанах.

- Подпоручик в зимней форме - шинели с лядункой, вооружен саблей.
- Ротмистр (капитан) в нестроевой форме (сюртук) в длинных штанах, вооружен саблей.
- Поручик в парадном мундире, с лядункой и фуражкой. Вооружен пистолетом и саблей.
- Вахмистр-знаменосец в строевой форме, на левом рукаве нашивки за выслугу лет. Вооружен 10.67 мм револьвером "Смит и Весон" №3 образца 1874 года и саблей.
- Рядовой в строевой форме. Вооружен карабином "Манлихер" и саблей.
- Рядовой в зимней форме - шинели и башлыке, вооружен саблей.

- Подпоручик в зимней парадной форме - шинели, шапке и с лядункой, вооружен саблей.
- Рядовой в зимней форме - шинели и фуражке.
- Рядовой в парадной форме. Вооружен 8 мм карабином "Манлихер" образца 1895 года и саблей.
- Подполковник в парадной форме (доламан), вооружен саблей.
- Майор в строевой форме (виц-доламан), вооружен саблей.
- Трубач в парадной форме.
- Рядовой в строевой форме. Вооружен 8 мм карабином "Манлихер" образца 1895 года со штыком.
- Поручик в строевой форме, вооружен саблей.

- Матрос миноносца "Дързки" в зимней форме - темно-синей "робе" и прямых штанах.
- Матрос в рабочей форме - серо-синея "роба".
- Мичман 2 разряда в летней строевой форме - белый мундир модели 1905 года, на фуражке чехол, одет в зимние штаны.
- Капитан 2 разряда в парадной форме - треуголка, эполеты и поясной шарф, вооружен морским палашом.
- Мичман 1 разряда в нестроевой форме - сюртук, вооружен кортиком.
- Матрос крейсера "Надежда" в зимней форме - шинели и сапогах.

- Поручик 9-го Пловдивского пехотного Ее Царского Высочества Княгини Клементины полка в парадной форме.
- Майор 24-го Черноморского Пехотного Ее Величества Царицы Елеоноры полка в парадной форме с погонами и шапкой с цветным верхом, караул при резеденции Его Величества Царя.
- Подпоручик 3-го конного Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны полка в летней форме с лядункой.
- Подпоручик 4-го конного Его Царского Высочества Престолонаследника Князя Бориса Тырновского полка в парадной форме.
- Унтер-офицер 6-го Тырновского Пехотного Его Величества полка в парадной форме. Этот мундир старой модели и был роздан унтер-офицерам, на левом рукаве есть нашивки за выслугу лет. Вооружен 10.67 мм револьвером "Смит и Весон" образца 1874 года.
- Рядовой 22-го Тракийского Пехотного Его Королевского Высочества Карла Эдуарда Герцога Сакс-Кобург-Готского полка в зимней шинели. Экипирован обоймами для "Манлихера" 95 и поддерживающими ремнями. Вооружен 8 мм винтовкой "Манлихер" образца 1895 года со штыком.

- Поручик в зимней шинели вооружен саблей.
- Офицер в сюртуке и накидке, в прямых штанах, вооружен саблей.
- Полковник в парадной форме, этот старший офицер из свиты царя, об этом говорит белая шапка и зигзагообразное шитье на воротнике, и остроконечные обшлаги. Состоит в должности командира бригады, об этом говорят висящие кисти на поясном шарфе. Вооружен саблей.
- Майор в летней нестроевой форме, серый китель, на фуражке чехол, одет он в прямые штаны. Вооружен саблей.
- Капитан в нестроевой форме - сюртук и сапоги. Вооружен старой моделью шашки с деревяными ножнами и плечевой портупеей.

- Башлык.
- Полное боевое снаряжение пехотинца - ремень, обоймы, штык, лопата, сухарная сумка, чехол для фляги с водой, ранец со скатаным одеялом и котелком для еды.
- Патронные сумки для обойм "Манлихер".
- Бинокль.
- Кобура револьвера "Смит и Весон".
- Кобура пистолета "Люгер-Парабелум".
- Патронная сумка для обойм "Манлихер" образца 1886 года.
- Патронная сумка для обойм "Бердана 2".

- Рядовой (во флоте матрос).
- Ефрейтор.
- Младший утер-офицер (продолговатая полоса показывает, что это первокласный стрелок или наводчик).
- Старший унтер-офицер кавалерии или инженерных войск.
- Фельдфебель (галун показывает, что сверхсрочная служба).
- Школьник.
- Кадет.
- Кандидат в офицеры (у юнкеров - вензель "Ф") - кондуктор.
- Подпоручик запаса.
- Эполет парадной формы младшего офицера.
- Эполет парадной формы офицера кавалерии.
- Эполет парадной формы старшего офицера.
- Погон офицера 6-го пехотного Тырновского полка.
- Погон офицера 9-го пехотного Пловдивского полка.
- Погон офицера 24-го пехотного Черноморского полка.
- A - J вензеля шефских полков.
- Фуражки: а)пехотная, б)артиллерии, инженеров, понтонеров, пионеров, ж/д войск, в)кавалерийская, д)флотская.
- Треуголка
- Шапки: а)генеральская, б)генерального штаба, в)Лейб-Гвардейская, г)пехотная, д)артиллерийская, е)кавалерийская.
- Воротники на парадный мундир: а)генеральский, б)Лейб-Гвардейский, в)артиллерийский, г)генерального штаба, д)пехотный, е)кавалерийская.
- Обшлаги: а)генеральские, б)генерального штаба, в)пехотные, г)Лейб-Гвардейские.
- Общлаг, воротник, погон морской парадной формы.

- Подпоручик - конная артиллерия - мичман 2-го разряда.
- Поручик - артиллерия - мичман 1-го разряда.
- Ротмистр (капитан) - кавалерия - лейтенант.
- Майор - пионер - капитан-лейтенант.
- Подполковник - генеральный штаб - капитан 2-го ранга.
- Полковник - пехота - капитан 1-го ранга.
- Генерал-майор.
- Генерал-лейтенант.
- Полный генерал.
- A - J отличительные знаки родов войск.
- Погон офицера 22-го пехотного полка.
- Погон офицера 3-го конного полка.
- Погон офицера 4-го конного полка.
- Погон рядового Лейб-Гвардии конного полка.
- Погон старшего офицера Лейб-Гвардии конного полка.
- Погон поручика Лейб-Гвардии конного полка.
- Погон майора Лейб-Гвардии конного полка.
- Погон от морской парадной формы.
- Воротники парадных мундиров шефских полков: а)6-го пех. полка, б)24-го пех.полка, в)3-го кон. полка, г)9-го пех.полка, д)22-го пех.полка, е)4-го кон. полка.
- Шапки шефских полков: а)6-го пех. полка, б)24-го пех.полка, в)3-го кон. полка, г)9-го пех.полка, д)22-го пех.полка, е)4-го кон. полка.
- Обшлаги: а)артиллерия, б)кавалерия, в)6-го пех. полка, г)24-го пех.полка, д)3-го кон. полка, е)9-го пех.полка, ж)22-го пех.полка, з)4-го кон. полка.