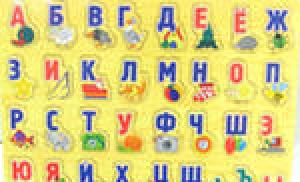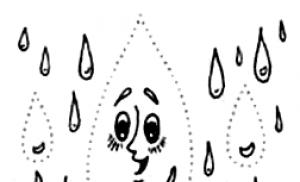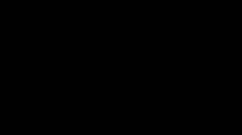Отец василий ермаков прозорливый где похоронен. Об отце василии
Так как семья еле сводила концы с концами, девочки прислуживали в богатых семьях, а Василий был пастухом. Когда ему исполнилось 14 лет, умер его отец. С этого дня Василий стал хозяином в доме, надев отцовскую рубаху, он всем дал понять, что вся ответственность за семью теперь лежит на нём.
В 1936 году Василий женился на Любови Васильевне Хломовой, её отец принадлежал к богатому купеческому роду, он занимался рыбной ловлей, коптил рыбу для продажи.
Молодые жили в семье Бориных. Их первый ребёнок умер в младенчестве , позже родились три дочери. Молодой семье помогал брат Любови Васильевны. Давал свою сеелку, молотилку, веялку. Но во время коллективизации всё было изъято.
Батюшка вспоминал с грустью об этом времени, пришлось сидеть в тюрьме, несколько раз угрожали расстрелом. Во время войны был в плену. Покаянная молитва не сходила с уст, а когда немцы вели на расстрел, взмолился: «В руце Твои, Господи, приими дух мой...» И его отпустили...
После войны семья Бориных жила у родственников Любови Васильевны в деревне Реола, затем перебрались в Тарту, там получили небольшой участок. Василий долго не мог устроиться на работу, так как искал место, где можно было бы вместо отпуска не работать в дни церковных праздников. Но на таких условиях его не брали на работу. Наконец устроился на расчистку леса от веток. Но так случилось, что ему не прислали трактор, и он не успел выполнить всю работу, поэтому работал в Страстную пятницу – сжигал ветки. От костра огонь перекинулся на лес. Он бросил тушить пожар, при этом кричал: «Господи, буду служить Тебе, только потуши пожар». Прибежали люди на помощь, пожар был потушен.
Следует отметить, что Василия не раз приглашали учиться в семинарию, но он сомневался, сможет ли быть священником.
Помня своё обещание, Василий скоро уехал в Петербургскую семинарию, где проучился 2 года.
Профессор Богослов Игорь Цезаревич Миронович вспоминает: «Любовь народную завоевали не мы, учёные, а он... Я в семинарии с ним учился ... Люди за ним толпами ходили. Мы удивлялись, что он им говорит. Всегда в старом подряснике, а новый, как выдадут – тут же продаст, семье помогал».
Из-за крайне тяжёлого материального положения его семьи, в 1952 году ему дали приход в деревне Финева Гора в Псковской области, в 1955 – перевели в деревню Верхний Мост. Вскоре появилась возможность закончить учёбу в семинарии, и батюшка вернулся в Петербург.
После окончания семинарии отца Василия перевели в Эстонскую епархию.
Отец Василий незадолго до своего переезда с Псковщины в Эстонию видел сон – кто-то пришел к нему и сказал: «Начинай восстанавливать разбитую церковь в Сыренце!». Приехав в Таллиннское епархиальное управление представиться митрополиту Алексию*, отец Василий робко сказал: «Владыка, не посчитайте это за неуместную шутку. Видел я сон, якобы посылают меня восстанавливать церковь в каком-то Сыренце. А где это? И что это такое?». Улыбнувшись, митрополит Алексий ответил: «Так Сыренец в моей епархии. Это село называется теперь Васкнарва. Вот и хорошо, очень хорошо, я вас и направлю туда». (* Епископ Таллиннский и Эстонский Алексей (Ридигер) 29 июня 1986 года был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллиннской епархией. 7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви митрополит Алексий был избран на Московский Патриарший Престол. Интронизация состоялась 10 июня 1990 года.)
Недалеко от Пюхтицкой обители в месте, где из Чудского озера берет начало река Нарва, по промыслу Божиему, отцу Василию Борину надлежало восстанавливать Ильинский храм в деревне Васкнарва. Ему, как и Пюхтицким блаженным были чужды гордость и тщеславие, по своему глубокому смирению он не полагался только на свою силы (в противном случае он мог впасть в уныние, глядя на руины церкви, которую ему предстояло восстановить). Зная, что велика сила молитв Пюхтицких блаженных стариц*, он часто посещал места их упокоения, чтобы испросить их молитвенного предстательства перед Господом.
(Блаженная старица Елена(1866- 1947) и блаженная старица Екатерина(1889-1968) похоронены на монастырском кладбище недалеко от Никольской церкви.)
Для восстановления каменной церкви нужны были кирпич, цемент, доски, способные трудиться люди. Пюхтицкая обитель помогала всем, чем могла.
Одна из духовных дочерей подвижника была свидетельницей того, как по молитвам блаженной Елены отцу Василию выдали цемент, хотя первоначально работники склада заявили, что цемента нет, из-за этого стоит строительство школы и больницы. Отец Василий спокойно ответил, что этого не может быть: «Я перед отъездом сюда заезжал в Пюхтицкий монастырь, молился блаженной Елене, а она мне всегда помогает. Цемент для меня должен быть!» - и сел на стул. Чуть позже подошёл ещё один сотрудник склада, и, узнав о случившемся, спросил протоиерея Василия: «Может, это для тебя в тупике стоит вагон с цементом, в котором не хватает двух тонн? Давно идёт тяжба по этому поводу».
Отец Василий радостно воскликнул, что блаженная Елена его никогда не подводила, и он берёт цемент, и готов оплатить недостаток. Когда цемент привезли в храм, то оказалось, что там не было недостатка, а наоборот - избыток.
Поначалу было очень трудно отцу Василию. Рядом с развалинами каменного храма стояла маленькая деревянная церковь, там отец Василий служил. Господь наделил его даром исцелять болезни душевные и телесные - он отчитывал людей, имел на это благословение ныне прославленного преподобного отца Симеона Печерского. (Следует отметить, что отец Василий был духовным сыном архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (1910-2006)).
К отцу Василию в Васкнарву приезжало много людей, надо было их где-то размещать, поэтому он возвел несколько построек.
Из рассказа игуменьи Варвары (Трофимовой): «Часто отец Василий через нас – мимо Пюхтицы – проезжал. Зайдёт, бывало, на монастырское кладбище - и прямехонько на могилки к матушке Елене да к матушке Екатерине, блаженным нашим, и просит: «Старицы Божии, помогите мне. Я сейчас к матушке игумении пойду, у неё поклянчу немножко...
Вот по-простому поговорит на могилочках, помолится... И мне всё расскажет: «Матушка, уж так просил, так просил стариц Божиих...»
Я говорю: «Ну, батюшка, вас Господь не оставит».
Вот, матушка, еду, там кирпич обещали, там немного дощечек... А ты мне что-нибудь дашь?
Дам, батюшка, обязательно...
Вот так отец Василий и начинал. А как пошло дело! Он всё расчистил, заново заложил фундаменты трёх алтарей... Я много раз приезжала к нему и радовалась.
Днём работает, а вечером всенощную служит, со своими богомольцами молится. Никого у него в помощниках не было . Ни второго священника, ни дьякона. И причащал, и отчитывал, и молебны служил, и соборовал - и все один. Народ к нему пошёл. Приезжали из Петербурга, из Москвы – отовсюду, везли вещи, иконы, материалы, появились портнихи, маляры, штукатуры, повара... Кто шьет облачения, кто стряпает, кто штукатурит, красит, кто дрова пилит. Нашлись и художники, которых он сразу поставил орнаменты расписывать, а в дальнейшем приступили и к настенной росписи в Никольском приделе.
Отец Василий хотел, чтобы все «как по-старому было». Нашел старинные фотографии, у нас в монастыре тоже кое-что нашлось... «У меня будет церковь только трех престольная!»- говорил он».
Главный престол - в честь пророка Божия Илии, левый - во имя Святителя Николая и правый - во имя Иоанна Крестителя.
15 октября 1978 года митрополит Алексий совершил освящение Никольского придела восстановленного из руин Ильинского храма в Васкнарве . Отец Василий прослужил в этом храме до самой кончины, наступившей 27 декабря 1994 года.
Из воспоминаний игуменьи Варвары (Трофимовой): «Я очень любила отца Василия, просто преклонялась пред его мужеством и любовью. Это был истинный пастырь, духовный подвижник. Он горел весь. Привлекала в нем честность, прямота, подлинная открытость ближним. Если попросишь его о чем-нибудь - он, кажется, всю душу тебе готов отдать. И все от Бога полученные таланты вкладывал в Божие дело , в церковь».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия: «Отец Василий был очень терпелив, много молился и скорбел о своих чадах. Он старался вызвать в людях страх Божий... Батюшка говорил человеку: « Да, ты болен! Так как же ты исцелишься, если ты в грехе и продолжаешь грешить? И человек страшился, что на всю жизнь останется калекой, и старался творить молитву.
Батюшка учил нас любви к отошедшим душам и молитве о них. Однажды на праздник ему подали так много записок об упокоении, что у него не хватило сил и времени их прочесть. Он упал на колени и зарыдал, прикрыв записки руками: «Господи, - взмолился он, - Ты видишь, что у меня нет сил прочесть их все , прочитай Сам!». Когда батюшка поднял руки, то понял, что все записки прочтены. Тогда он возблагодарил Господа... У него был дар слёз, он умел молиться и плакать вместе со скорбящей и болящей душой».
Многие люди исцелялись по молитвам подвижника, но некоторые оставались в том же состоянии. Отец Василий говорил: «Я – только раб Божий, а исцеление от Бога. Ничто не происходит с верующим человеком без воли Божией. Если Господь благословляет очищение, то и бесы отступают».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия: «Однажды к батюшке приехала женщина с привлекательной дочерью, но не совсем здоровой... Она долго трудились. Мать привезла большую сумму денег на восстановление храма. Без устали таскала кирпичи, выполняла любую работу... Приблизилось время отъезда, и сердце её сжимается от отчаяния: «С чем приехали, с тем и уезжаем», - говорила она отцу Василию... Отец Василий очень расстроился после разговора с ней... Ночью не мог заснуть... встал на колени, поднял руки с мольбой и слезами настойчиво стал просить Господа помочь бедной женщине.
Утром после службы и отчитки произошло чудо. Девочке стало лучше. Мать, бесконечно счастливая, уезжала с дочкой домой, благодаря Бога и о. Василия.
Прошло немного времени, и о. Василий получил от неё письмо, залитое слезами: «...Батюшка, помолитесь за дочку... Ушла из дома, связалась с наркоманами...»
Батюшка закрылся в келье, горько плакал и просил прощение у Господа за ту дерзкую ночную молитву о ней.
На проповеди он часто рассказывал эту историю и говорил, что нельзя идти против воли Божией. Если не дается что-то по желанию твоему, значит так лучше для тебя. Смирись, подчинись воле Божией. «Если бы тогда я и мать поняли это, то дочь, хотя и больная, не погибла бы в грехах».
Батюшка говорил, что Господь только тогда может быть с человеком, когда человек смирился, перед всеми обстоятельствами, которые ему ставит Сам Бог...
Отец Василий говорил нам: «Если вы сейчас перестанете болеть, будете совсем здоровы, то пусти вас в мир – погибните!»
Он лишь облегчал страдания, о полном исцелении не просил Бога. Чтобы человек всегда жил в покаянии и всегда желал обращаться к Богу...
В одной из проповедей он рассказывал о своей прихожанке, которая работала в колхозе. Когда бригада отдыхала, она уходила в сторонку и читала Евангелие. И вот пришло ей время умирать. Батюшке сообщили, но когда он пришёл было уже поздно... «Вы все приняли меры?» - спросил он у врача. «Да», ответила та.
Тогда отец Василий сказал: «Эта раба Божия не оставляла Евангелие, Бог не оставит её без причастия». И обращаясь к лежащей, произнёс: «Кайся, раба Божия!». И стал перечислять грехи. В этот момент все увидели, как две слезинки выкатились из её закрытых глаз. А батюшка спросил: «Причащаться будешь?».
Она открыла рот, и батюшка её причастил.
« Да, - сказала врач, - Бог есть!» - и с этого времени уверовала в Господа».
Из воспоминаний В. Л.: «...Отец Василий советовал утром, вставая с постели, перекрестить ноги со словами: «Господи, благослови стопы мои идти по путям заповедей Твоих!
Батюшка старался, как можно дольше продержать нас в храме, объясняя, что каждую минуту, проведённую здесь, ангел записывает...»
Он помогал людям встать на правильный путь. Решались ли семейные дела, возникали ли квартирные вопросы – батюшка обязательно молился в храме, во время молебна, на Литургии, за тех, кто к нему обращался. Молился и в келье. И только потом давал ответ...
Надо сказать, что времена тогда для православных людей были суровые. Мы не могли подолгу оставаться у о. Василия: милиция наведывалась и ночью, и вечером. Приходилось прятаться. А кому не удавалось – тех увозили, хотя по молитвам о. Василия, они возвращались...
Однажды власти собирались закрыть храм, но батюшка усердно молился, и наутро выпал такой сильный снег, что они не смогли проехать на машине. Даже хлеб тогда сбрасывали с вертолётов. Батюшка ликовал...»
Приведём ещё несколько свидетельств о чудесах явленных Господом по молитвам подвижника:
«...Батюшка привёз нас к себе, а сам заболел, слёг с температурой 39 градусов. Сильный изнуряющий кашель, да ещё флюс... Он лег прямо на полу в своей деревянной церкви...
К вечеру собралось множество народу – это был день, назначенный батюшкой для отчитки. Один раз в неделю приезжали больные, перед болезнями которых врачи оказались бессильны... Люди собрались, ждут, а батюшка лежит на полу совсем больной, кашляет, стонет от боли... Народ начал роптать...
Отец Василий встал, превозмогая боль, и пошёл в алтарь. Были слышны его стоны и плач.
Вдруг всё изменилось: распахнулись Царские врата, отец Василий стоял совершенно здоровый, бодрый с радостным лицом .
Вот, дороги мои. Вы сами видели, какой я только что был. Но Господь восстановил меня после молитвы. «Господи, - сказал я, повергшись перед ним на пол. Господи, не ради меня, грешного. Но ради народа, который ко мне пришёл, пощади меня, исцели!»
Да это было чудо. Отец Василий был совершенно здоров. Кашель не возобновился...
Отец Василий рассказывал, как однажды всё лето молился пророку Илии, чтобы тот не давал дождя на землю, потому что крыша храма была не покрыта. Так вот, сильный дождь полил только по окончании строительных работ.
А сколько слёзных молитв вознёс батюшка к Богу, прося средств и помощи для ведения строительных работ! Об этом одному Богу известно.
Помню, пришли к батюшке двое рабочих просить рассчитаться с ними за какое-то дело. А денег у него нет...
Вот отец Василий и говорит рабочим:
Погодите до вечера, я жду с почты перевод.
Хотя ни о каком переводе он не знал, а поэтому волновался, конечно. Но молился и верил.
И, правда, вскоре пришёл денежный перевод. Сам отец Василий этому удивлялся.
Но не только даром молитвы обладал батюшка. Был у него великий дар предстояния пред Богом. На каждое дело он испрашивал благословение у Господа, у Царицы Небесной, у святых. Если предстояло решать какой-либо вопрос, то без молитвы он ничего не предпринимал. А обращался немедленно с пламенным и часто слёзным молением к Богу, и получал ответ, да-да, именно ответ внутри своего сердца. Поэтому отец Василий всегда имел ясность и твёрдость убеждения, как поступать».
Приведём воспоминание о последних днях подвижника из книги «Отец Василий Борин»: « Когда он заболел, то сказал, что умрёт и родные, приехав, уже не застанут его в живых. Так и случилось...
Батюшка был уже болен и не служил. И вот как-то летом долго не было дождя. В храме отслужили молебен, но на небе – ни облачка. Тогда отец Василий, совсем больной, еле двигаясь, пошёл в храм, помолился у престола, и вскоре крупные капли дождя напитали землю влагой.
Последний раз батюшка служил в 1992 году в Прощеное воскресенье . О. Василий у всех попросил прощение. У него едва хватало сил стоять, в алтаре он не смог сам снять облачение, алтарник ему помог... В ночь на субботу, 24 декабря 1994 года, батюшке стало плохо. Позвонили благочинному... Позвонили матушке игумении..., попросили помолиться, чтобы батюшка дожил до причастия.
Когда приехал благочинный, о. Василий пришёл в сознание. Его соборовали, причастили, он всех узнал, назвал по имени, потом силы оставили его, и больше он в сознание не приходил . В воскресенье приехали священники, прочитали отходную...
27 декабря 1994 года в 2 часа ночи тихо, в молчании, как бы весь находясь в послушании воле Божией, батюшка скончался.
Вечная память тебе и низкий поклон, батюшка Василий!»
Об отце Василии
Во все времена воздвигает Господь угодника Своего, молящегося за народ свой, сохраняющего духовную преемственность от благочестивых своих родителей. Так и ныне: на Серафимовском кладбище, в церкви преподобного Серафима Саровского Господь поставил Своего служителя, более 50 лет учившего обезверившийся «советский» народ, как «подвизаться законно» (апостол Павел), как следовать за Христом на всех путях своей жизни, - отца Василия Ермакова. И не случайно именно на этом месте.
Серафимовское мемориальное кладбище - это могилы умерших от голода блокадников, павших воинов афганской и чеченской войн, моряков «Курска», выдающихся представителей творческой и научной интеллигенции, это могилы родителей Владимира Путина.
И, как некогда к преподобному Серафиму стекались все сословия русского общества, так и ныне на Серафимовском кладбище - бизнесмены, ученые, военачальники и многие люди со всех уголков России и из-за рубежа, жаждущие получить наставление в трудных перипетиях своей судьбы, желающие знать волю Божию о своей дальнейшей жизни.
25 лет возглавлял общину храма преподобного Серафима протоиерей Василий Ермаков, всей своей жизнью явивший подвиг служения Христу и России. Родом из древнего русского города Орловской губернии Болхова, сын благочестивых, глубоко верующих родителей. Находясь в оккупации, а затем в концлагере в Эстонии, исполняя тяжелые физические работы, о. Василий всей своею жизнью постигал закон нашего бытия: «Без Бога ни до порога». Впервые придя в открывшуюся в оккупации церковь, о. Василий увидел, как молится исстрадавшийся, вновь обретающий веру своих отцов народ. В основном это были женщины. И одним из главных слов Батюшки было слово, обращенное к русской женщине-матери. Это слово о непрестанной материнской молитве за детей и мужа, о прямой обязанности матери научить своих детей молиться, твердой родительской рукой не допустить их до злачных мест, «дискотек» и пр. Ибо от воспитания молодежи зависит наше будущее.  «Россия подымется!» - часто повторял Батюшка, хотя времена в духовном отношении будут очень трудные. Поэтому он учил молиться, не подступать к Богу легкомысленно, не потрудившись внутренно, не осознав всего величия той Святыни, к которой мы дерзнули приступить.
«Россия подымется!» - часто повторял Батюшка, хотя времена в духовном отношении будут очень трудные. Поэтому он учил молиться, не подступать к Богу легкомысленно, не потрудившись внутренно, не осознав всего величия той Святыни, к которой мы дерзнули приступить.
Отец Василий, выросший близ Оптиной пустыни, дышавший одним воздухом с оптинскими старцами, в молодости внимавший советам и поучениям преподобного Серафима Вырицкого, связанный многолетней духовной дружбой с о. Георгием Чекряковским и о. Иоанном Крестьянкиным, донес до нас, живущих в XXI веке, дух русского православия, казалось, уже окончательно утраченный. Но Бог милостив, и многое может молитва его верного служителя. О. Василий создал, вымолил, сплотил свою большую серафимовскую семью – живой пример русской православной семьи (а ведь раньше все коллективы в России были своего рода семьями). А значит, сохранить ее, сберечь и передать другим то, чему учил Батюшка – долг знавших его не только перед ним Самим, но и перед Россией. И вход в нее не закрыт для всех, кто сердцем своим ищет путей спасения себя и своих близких и служения России.
Вот что рассказывает о себе сам Батюшка:
“Родился я в городе Болхове Орловской области, и в моей детской памяти запечатлелись 25 заколоченных храмов без крестов, с разбитыми окнами, - так было у нас, да и везде в России в предвоенные, тридцатые годы. До 14-ти лет я прожил без храма, но молился дома, молитвой родительской, - отец, мама и сестры - все молились... Началась война. И вскоре мы стали свидетелями трагического отступления, даже беспорядочного бегства войск. И 9 октября 1941 года в город вошли немцы. Что особенно остро вспоминается о тех днях? Что тогда происходило в Болхове? Установление новой власти - избрание бургомистра, то есть власть какая-то… Нас, молодежь от 14 лет и старше, немцы ежедневно гоняли на работу. Работали под конвоем. На площади в 9 часов утра собирались. Приходит немец и выбирает, кому куда идти: дороги чистить, окопы рыть, после бомбежки засыпать воронки, мост строить и прочее. Вот так и жили…. Мне тогда было 15 лет.
Вскоре прошел среди оставшихся жителей слух о том, что собираются открыть церковь. 16 октября был открыт храм во имя святителя Алексия, митрополита Московского. Люди ходили по разоренным храмам, собирали для него иконы, которые не успели уничтожить. Нашли чудотворную икону, Иерусалимскую - она была приколочена к полу, и по ней ходили люди. А вскоре дошел слух, что собирается народ открыть церковь. Но все было потеряно, разграблено. Люди стали ходить по закрытым храмам, собирать уцелевшие иконы, что-то взяли брошенное в музее. Часть икон принесли в церковь сами жители. И вот 16 октября 1941 года церковь открылась. Это был бывший монастырский храм ХVII века митрополита Алексия (женский монастырь Рождества Христова, сейчас здание этой церкви сохранилось, но в ней находятся жилые помещения).
Впервые в эту церковь я пришел где-то в ноябре. Служил священник Василий Веревкин. С 1932 по 1940 он отсидел в лагерях на лесоповале в Архангельской области.
Дома отец сказал: "Дети пойдемте в церковь - принесем благодарение Богу". Мне было страшно и стыдно идти туда. Потому что я на себе ощущал всю силу сатанизма. А что на меня давило? Как и сегодня давит на всех тех, кто идет впервые в храм Божий. Стыд. Стыд. Очень сильный стыд, который давил на мою душу, на мое сознание… И шептал какой-то голос: "не ходи, смеяться будут… Не ходи, тебя так не учили…" Я шел в церковь, оглядываясь кругом, чтобы меня никто не видел. Идти напрямую километра полтора было до церкви. А я кругом шел, километров пять обходил через речку… Народу в храме было около двухсот человек, наверное… Я отстоял всю службу, посмотрел, увидел молящийся народ, но душа моя была еще далеко от ощущения благодати. В первый раз я ничего не ощутил …
Наступил 1942 год, очень трудный: фронт отстоял от нас в 8-и километрах. Я с родными пошел в храм под Рождество. И стоя в переполненном храме, - новый открыли, Рождества Христова, - в нем помещалось до трех тысяч молящихся, - мне было удивительно видеть горячую молитву, и слезы, и вздохи; люди, в основном женщины, были в протертых фуфайках, заплатанной одежде, старых платках, лаптях, но то была молитвенная толпа, и крест - истовый, благоговейный, которым они осенялись, молясь за близких, за свои семьи, за Родину - потрясло. То была настоящая глубокая молитва русских людей, обманутых не до конца, которые опомнились и вновь приникли к Богу. И еще запал мне в душу хор. Как они пели. С душой, одухотворенно. То был язык молитвы, веры. Регентом был мой учитель пения, который меня учил в школе. И вот тогда я с ясностью ощутил: “Небо на земле”.
 Храм был закопченный. Окна закрыты камнями. Рам не было, кирпичи какие-то … Свечи домашние… И служит отец Василий. Мы дружили семьями, я с его сыном учился в 3-ей школе. Этот единственный, оставшийся в городе священник, совершал богослужения. И с того времени, с 42 года, с Рождества Христова я как бы родился заново. И стал ходить еженедельно по субботам и воскресеньям в церковь…
Храм был закопченный. Окна закрыты камнями. Рам не было, кирпичи какие-то … Свечи домашние… И служит отец Василий. Мы дружили семьями, я с его сыном учился в 3-ей школе. Этот единственный, оставшийся в городе священник, совершал богослужения. И с того времени, с 42 года, с Рождества Христова я как бы родился заново. И стал ходить еженедельно по субботам и воскресеньям в церковь…
Это было время войны, время комендантского часа, когда выходить из дома мы могли с 7-ми утра до 7-ми вечера. Весной. А зимой только до 5-ти вечера. После назначенного часа никуда не пройдешь… Служба начиналась часа в три-полчетвертого. А я почувствовал необходимую помощь молитвы, и когда немцы нас отпускали в пять часов вечера с работы, я домой прибегал, быстренько надевал какие-то свои одежды и бегом в церковь и стоял. Мое место - налево перед Иерусалимской иконой Божией Матери. Эту чтимую чудотворную икону нашли в каком-то заброшенном храме. Народу много, и я постепенно, постепенно из недели в неделю, из месяца в месяц привыкал ходить в церковь. Меня заметил отец Василий и сказал: "Васек, я тебя возьму в церковь". 30 марта1942 года он ввел меня в алтарь. Показал, где можно ходить, где нельзя ходить, где, что можно брать, что нельзя…
Отец Василий надел на меня стихарь, и я уже начал в стихаре выходить… Люди увидели, что я держу свечку в стихаре, свечку выношу, в церковь хожу. И тут мои сверстники, ребята, с которыми я учился, начали надо мной издеваться. И мне тогда по моему юному 15-летнему состоянию нужно было выдержать удар насмешек, издевательств над моей неокрепшей душой. Но я твердо ходил, молился, просил…
Помню Пасху 1942 года, была она на Лидию 5 апреля. Еще был лед, крестного хода тогда не было. Молились. Какой-то кусок черного хлеба был, разговелись. И вдруг начался страшный обстрел. Из окна видны были разрывы, самолеты летели немецкие. Танки… Потом через два дня идут пленные наши. Изможденные.
Мы спрашиваем: "Ну, как?" Отвечают: "Мы выскочили на поле, немцы подавили нас танками". Я спросил: "Ну, как там живут церкви?" -"Да какие церкви, и Бога-то нет…" А у нас уже была церковь, и народ ходил туда. Немцы нам не мешали. Помню, в храм они заходили, сняв головной убор. Смотрели, не шумели, никаких претензий не было….
Пасха 1943 года была где-то в конце апреля. Кто-то похлопотал у властей, и нам разрешили в Пасхальную ночь совершить крестный ход, где я принимал участие уже в стихаре, как маленький священнослужитель. Этот 1943 год - год перелома в войне. Фронт приблизился к городу. Мы жили непрерывно под страхом бомбежки. В ту Пасхальную ночь из Тулы на Орел шли наши бомбардировщики. Наутро мы услышали, что погибло 400 мирных жителей.
Еще я помню этот 43 год вот по такому событию. Летом по домам у нас носили чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери. Как принимал ее народ? Начиналось все в 12 часов дня и до пяти. Приходил отец Василий, служили краткий молебен, икону поднимали, мы под ней проходили. Это была радость для всей улицы, на которой совершался молебен. Но были и дома, которые святыню не принимали.
Но все равно в моей памяти запечатлелось молитва русских людей. Это вдохновляло и поддерживало. Как будто Господь говорил мне: "Смотри, сколько людей верующих, а ты смущался. Что ты думал там своей маленькой головенкой, то, что вера погибла, то, что вера угасала, то, что русские люди неверующие". Эта зарождавшаяся и укрепляющаяся во мне вера дала силы выстоять, когда для меня наступило страшное время.
В начале июля 1943 года началась битва на Курской дуге. Фронт приблизился к городу, начались бомбежки. И 16 июля я попал в немецкую облаву вместе с сестрой; в эту же облаву попала семья отца Василия Веревкина: нас гнали под конвоем на запад.
 В лагере Палдиский в Эстонии, куда нас пригнали 1 сентября, было около ста тысяч человек. Там было наших Орловских около десяти или двадцати тысяч, были и Красносельские, Петергофские, Пушкинские, их привезли раньше. Смертность была высокая от голода и болезней. Мы прекрасно знали, что нас ожидает, что будет. Но нас поддерживало Таллиннское православное духовенство: в лагерь приезжали священники, привозили приставной Престол, совершались богослужения. К нам приезжал в лагерь присно поминаемый мною протоиерей отец Михаил Ридигер, отец Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Служил он с сегодняшним митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием. Я хорошо помню, как они совершали литургии в военно-морском клубе, хор был из лагерных. Люди причащались, была торжественная служба. И я здесь ощутил еще более, что не только у нас в краях орловских так молились. Посмотрел и увидел, что все приехавшие из Красного Села, Пушкина, Петергофа, - все они молились, пели, и явственно ощущалась благодать Божия. У меня была икона Спасителя, она до сих пор цела, которой успел благословить меня с сестрой моей Лидией отец. И я в лагере ставил ее на камень и молился, как Серафим Саровский. Ну, как уж молился? Ничего я не знал. Своими словами: "Господи, помоги мне выжить в это страшное время, чтобы не угнали в Германию. Чтобы увидеть своих родителей". А к слову сказать, я родителей потерял на два года. В лагере я пробыл до октября 1943 года.
В лагере Палдиский в Эстонии, куда нас пригнали 1 сентября, было около ста тысяч человек. Там было наших Орловских около десяти или двадцати тысяч, были и Красносельские, Петергофские, Пушкинские, их привезли раньше. Смертность была высокая от голода и болезней. Мы прекрасно знали, что нас ожидает, что будет. Но нас поддерживало Таллиннское православное духовенство: в лагерь приезжали священники, привозили приставной Престол, совершались богослужения. К нам приезжал в лагерь присно поминаемый мною протоиерей отец Михаил Ридигер, отец Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Служил он с сегодняшним митрополитом Таллиннским и всея Эстонии Корнилием. Я хорошо помню, как они совершали литургии в военно-морском клубе, хор был из лагерных. Люди причащались, была торжественная служба. И я здесь ощутил еще более, что не только у нас в краях орловских так молились. Посмотрел и увидел, что все приехавшие из Красного Села, Пушкина, Петергофа, - все они молились, пели, и явственно ощущалась благодать Божия. У меня была икона Спасителя, она до сих пор цела, которой успел благословить меня с сестрой моей Лидией отец. И я в лагере ставил ее на камень и молился, как Серафим Саровский. Ну, как уж молился? Ничего я не знал. Своими словами: "Господи, помоги мне выжить в это страшное время, чтобы не угнали в Германию. Чтобы увидеть своих родителей". А к слову сказать, я родителей потерял на два года. В лагере я пробыл до октября 1943 года.
В этом же лагере находился и отец Василий Веревкин. И таллиннское Духовенство обратилось к немцам с просьбой - отпустить священнослужителя и его семью. А немцы были уже не те немцы, что в начале войны, и пошли навстречу просьбе Духовенства. Отец Василий сопричислил к своей семье и меня с сестрой. 14 октября, на Покров, нас отпустили в Таллинн.
Туда мы приехали в солнечный день, и я сразу пошел в церковь Симеона и Анны. Был я изможденный, голодный, чуть не падал от ветра. Войдя в Храм, я принес молитву Благодарения Божьей Матери за мое освобождение из лагеря. И для меня начался новый, духовный образ жизни. Я видел истинных священников, слушал их проникновенные проповеди; среди прихожан было много бывших эмигрантов из России, вынужденных покинуть Родину после октябрьской революции. Они горячо молились.
Я получил доступ к Духовной литературе... И тогда я впервые узнал, что был на Руси угодник Божий Серафим Саровский. Всех нас, конечно, интересовало, какова будет судьба России, нашей Родины, - какой она явится после войны. И мне запомнились такие слова из проповеди священника, что наступит золотое время для России, когда летом будут петь пасхальные песнопения, - Христос Воскрес. И мы молились, веря, что “золотое время” наступит.
Я побывал в Брянске, далее Унече, Почеке, храмы были открыты, чему народ очень радовался. Храмы жили в оккупации. Их было открыто много. Почему? Что явилось причиной? 5 сентября 43 года получив донесение от контрразведчиков, НКВДистов Сталин приказал в противовес немецкой пропаганде открывать храмы на Большой земле. Они спешно открывались, но не везде, кое-где. Не в черте города, а где-то на кладбищах малюсенькие храмы. Так, в Куйбышеве было два храма, в Саратове один-два маленьких, в Астрахани. Власти слышали, какой духовной подъем находят русские люди в церкви и решили показать народу, что и мы, товарищи-коммунисты, не против религии, вот, смотрите, мы тоже храмы открываем. Но мы прекрасно знаем, что священников так и не отпустили из лагерей.
 Храмов в оккупации было открыто много. И особенно сияли храмы, которые открыла Псковская православная миссия. Она была основана в 42 году во Пскове. В нее входили молодые священники из далеких мест, отдавшие себя делу просвещения русских людей. Народ с удивлением и недоверием относился к ним. Люди целовали батюшкам ризы, руки, щупали их, спрашивали: "Батюшка, ты настоящий?" Храмы были заполнены. Ходили слухи, что, мол, те священники подосланы, что они служат немцам. Но нигде я не нашел подтверждения этих слухов. Псковская православная миссия просвещала русских людей. Были открыты церковные школы. Там изучали закон Божий, историю прошлого, читали книги и пели русские песни. Немцы следили лишь за тем, чтобы не было никакой партизанщины. Это великое дело духовного просвещения было уничтожено с приходом советской власти в 1944 году. Некоторые из священнослужителей ушли с немцами за кордон. Остальные остались встречать советскую армию. Этих мучеников за православие сослали в Сибирь. Там они погибли.
Храмов в оккупации было открыто много. И особенно сияли храмы, которые открыла Псковская православная миссия. Она была основана в 42 году во Пскове. В нее входили молодые священники из далеких мест, отдавшие себя делу просвещения русских людей. Народ с удивлением и недоверием относился к ним. Люди целовали батюшкам ризы, руки, щупали их, спрашивали: "Батюшка, ты настоящий?" Храмы были заполнены. Ходили слухи, что, мол, те священники подосланы, что они служат немцам. Но нигде я не нашел подтверждения этих слухов. Псковская православная миссия просвещала русских людей. Были открыты церковные школы. Там изучали закон Божий, историю прошлого, читали книги и пели русские песни. Немцы следили лишь за тем, чтобы не было никакой партизанщины. Это великое дело духовного просвещения было уничтожено с приходом советской власти в 1944 году. Некоторые из священнослужителей ушли с немцами за кордон. Остальные остались встречать советскую армию. Этих мучеников за православие сослали в Сибирь. Там они погибли.
После освобождения я был мобилизован и отправлен в штаб флота КБФ. Но в свободное время - а оно было - оставался прихожанином собора Александра Невского в Талине и выполнял самые разные обязанности: и звонаря, и иподьякона, и прислужника. И так до конца войны.
Родителей своих я нашел только в 45 году. Только теперь я понимаю внутреннюю связь родителей и детей. Когда я их нашел, я спросил у мамы: "Как ты верила, что нас не расстреляли? Что мы не погибли?" "Я чувствовала материнским сердцем, что вы живы". Отец - участник гражданской войны, человек крепкой воли. Он ежедневно ходил по дороге, по которой угнали нас с сестрой. Родитель есть родитель, и неизвестность о нашей судьбе подорвала его силы. Он быстро сгорел. Умер в 46 году.
С благословения родителей подал я прошение о приеме в Московский Богословский институт. Лето 1946 года я ждал вызова, а его нет и нет. И вот уже август. И вдруг неожиданно получаю телеграмму из Ленинграда от моего друга Алексея Ридигера. Текст короткий: “Вася, приезжай в семинарию”. И поехал я в Ленинград. Добираться было сложно: выехал 22 августа, а прибыл только 1 сентября. На приемные экзамены опоздал. И все же меня приняли... Учились мы в полуразрушенном здании, во время войны здесь был госпиталь. Учащиеся были в основном из Прибалтики, из российской глубинки был, кажется, только я один. С нами учились и люди пожилого возраста, кому уже за сорок, часть была из послушников Псково-Печерского монастыря. Помню также Павла Кузина - матроса с линкора “Марат”.
 Когда я уже служил в Никольском соборе, прочел книгу с названием “Затейник” Григория Петрова, в ней раскрывался облик дореволюционного священника, который по окончании Академии поставил перед собой цель - идти на фабрики, заводы, на окраины Петербурга, туда нести свет истин Христовых. И он посещал цеха, лачуги, артели и проповедовал. Но это не нравилось революционерам, стремившимся сбить народ с толка. И священника, наставляющего людей на путь истинный, убили.
Когда я уже служил в Никольском соборе, прочел книгу с названием “Затейник” Григория Петрова, в ней раскрывался облик дореволюционного священника, который по окончании Академии поставил перед собой цель - идти на фабрики, заводы, на окраины Петербурга, туда нести свет истин Христовых. И он посещал цеха, лачуги, артели и проповедовал. Но это не нравилось революционерам, стремившимся сбить народ с толка. И священника, наставляющего людей на путь истинный, убили.
Читал и другие дореволюционные духовные издания. И все это очень помогло мне, когда я, по окончании Академии в 1953 году, начал службу священником в Никольском Морском соборе. Я отошел от привычного стереотипа священника, спустился с амвона к прихожанам, к людям и стал спрашивать: какая нужда, какое горе у человека... А время было какое? Не прошло и десятилетия со дня снятия блокады. В церковь пришли фронтовики, блокадники и блокадницы, которым довелось пережить все ужасы, - Бог сохранил их. И эти беседы были нужны не только им, но и мне.
В Никольском соборе я прослужил с 1953 по 1976 год. Затем перевели в церковь “Кулич и Пасха” рядом с Обуховским заводом, а в 1981г. - стал настоятелем Храма Серафима Саровского в Приморского округа города”.
Вот так - скупо - пишет о своей жизни Батюшка. И ни слова о том, о чем теперь ходят легенды - о явлении ему Божией Матери в немецком концлагере, о необычных обстоятельствах, сопровождавших поставление его в храм преподобного Серафима...
Каждый из нас имеет некоторый круг обще друг ко другу. Личностной встречи не происходит, мы уклоняемся от неё. Встреча человека с человеком всегда таинственна. Она случается, если мы видим некую глубину в другом. Различаем в нём игру внутреннего света. Умение видеть этот свет в ближнем – особый дар.
Внимания ко многим и многим требует дело пастырского служения. Чем более человек приближается к Богу, тем отчётливее он прозревает Бога во всех частях мироздания. Духовный человек может обрести свойство «великодушия» – расширения объёма души, способности принимать в неё духовные образы других людей. Одним из знаменитых старцев нашего времени был митрофорный протоирей Василий Ермаков, десятилетие преставления которого приходится на 3 февраля 2017 года.
Встреча с ним стала незабываемой для многих наших современников. Встреча происходит уже тогда, когда ослепляет свет святости. Но отец Василий обладал и даром прозорливости. Множество воспоминаний рассказывают об этом. Оказывается, все наши поступки, слова, мысли запечатлены в духовном пространстве и могут быть прочитаны духоносным человеком. – Мы существуем в духовном измерении. Столкнувшись воочию с чудом, человек осознавал духовный смысл своего бытия. И обретал встречу с единственным Батюшкой. И батюшка обретал встречу с сонмом «единственных» духовных чад, орбиты жизней которых исправлялись под влиянием духовной мощи наставника. Среди прихожан храмов, где служил отец Василий были артисты, литераторы, художники, музыканты, военные. Но простые люди помнят великого старца простым сердцем.
Пять лет, с 1976 по 1981 год, отец Василий служил в «Куличе и Пасхе». Тогда для жителей Понтонной, Отрадного, Кировска это был ближайший храм. Там и произошла встреча с батюшкой, главная встреча в её жизни, для Анны Васильевны. Они оказались не только современниками, но и земляками.
Часто мы не осознаём того, что находимся рядом не просто с человеком, но с историей отечества, с её самыми скорбными и величественными событиями, запечатлёнными в живом сердце. И чтобы мы не прошли мимо главного, и встреча нашего читателя с действительной историей русского народа состоялась, мы расскажем о двух судьбах.
Отец Василий Ермаков
Бога не забывай!
Василий Ермаков родился в 1927 году в Болохове Орловской губернии в крестьянской благочестивой семье. Время было смутное. Рушились вековые устои народной жизни. Врагами объявлялись целые сословия. Дворяне, интеллигенция, кулаки, духовенство… И главным врагом богоборческой власти был сам Создатель. Но что бы ни творилось во вселенной, в семье за мир перед детьми отвечают родители. Отец наставлял: «дети, вы обязаны молиться». И они подчинялись приказу. Все 28 церквей в городе к концу 30-х годов были закрыты. Семья молилась дома. Домашнее воспитание и впечатления внешнего мира значительно различались.
В 1933-35-х годах довелось пережить голод. Зимой в мороз приходилось дежурить в хлебных очередях. Полуторакилограммовая буханка дома делилась на пятерых. Однако хлеб удавалось купить не всегда. Спасали домашние картошка и овощи, но чувство голода не покидало. Храмы города были превращены в склады и засыпаны рожью и пшеницей, населению же хлеба не давали.
Кругом смотрели «закрытые храмы, выбитые окна, покосившиеся кресты» Но душевный мир ребёнка сохранялся благодаря семье. Во всей ярости Вася ощутил безбожие, когда пошел учиться. Перед школой стояла задача: «воспитать советского человека, беспредельно преданного идее социализма». Всё обучение сопровождали кощунственные стихи Демьяна Бедного, Багрицкого о пионерке, срывающей с себя крест, «героизм» Павки Морозова, предавшего отца в руки НКВД. Зло растлевало неокрепшие сердца, и из книжных примеров переходило в жизнь. Как-то одноклассница младшей сестры зашла в гости и, увидев, что девочка молится, рассказала об этом. На всю школу обесславили Варю Ермакову, дети преследовали её страшными насмешками и издевательствами.
Все эти воспитательные средства вызывали недоумение. Мальчик спрашивал отца, как быть? «Сынок, ты учись, но по делам их не поступай. … Прошу тебя, Бога не забывай!».
Надо идти в церковь
В 1941 Василий окончил семилетку. Но началась война и принесла новые испытания.
Немцы заняли Болохов 9-го октября 1941-го года. А уже 16 октября была открыт маленький монастырский храм во имя митрополита Алексия. Жители собирали уцелевшие иконы по закрытым храмам, приносили из дома. Была и чаша, достали и антиминс, облачение взяли из музея, нашлись и книги. Совершить богослужение при-шел единственный оставшийся в городе священник – Василий Верёвкин. Он только что вернулся из ссылки, отбыв 8 лет на лесоповале в Архангельской области, с 1932 по 1940 годы. Работы для него в городе никакой не нашлось, кроме корчёвки деревьев. С его сыном Вася дружил в школе. За семейным столом отец сказал: «дети, надо идти в церковь. Надо принести благодарение Богу, что дом не сгорел во время боев, никто из нас не ранен». Советское школьное воспитание сделало своё дело: на Васю напал демонический страх, что его увидят соседи. Но ослушаться отца было невозможно. «Отстоял службу и ничего не понял, но долг отцовский выполнил. Пошел домой. И опять боясь, как бы кто не увидал, как бы кто не «прихватил»».
С декабря всю молодёжь от 14 лет и старше стали ежедневно го¬нять под конвоем на работы, с 9 утра до 5 вечера. Зима была очень холодная, снежная, нужно было чистить снег на дорогах, засыпать воронки от снарядов.
Вскоре открыли храм Рождества Хри¬стова, где помещалось до трех тысяч человек. На Рождество вся семья Ермаковых была в нём. Эта служба потрясла Васю. Храм был забит битком. Люди, в основном женщины, в протертых фуфайках, заплатанной одежде, старых платках, лаптях, молились горячо, «в слезах и вздохах». Истово, благоговейно осеняя себя крестом. Молясь за близких, за свои семьи, за Родину. «То была на¬стоящая глубокая молитва русских людей, обманутых не до кон¬ца, которые опомнились и вновь приникли к Богу». «И хор подобрался чудесный, и даже непонятный славянский язык я чувствовал сердцем». «Я посмотрел уже иным каким-то внутренним взором», «…я со всей ясностью ощутил: «Небо на земле» – молитва». Сердца коснулась одухотворенная молитвенная благодать скорбящих людей.
«Я пришел в Церковь и с этого дня неукоснительно не пропускал службы». Отец Василий заметил такое усердие и позвал юношу помогать в алтаре. Участие в богослужениях вызвало насмешки и оскорбления от товарищей. Но сила духа помогала идти выбранной дорогой. «С каждым разом, посещая Церковь Божию, я укреплялся в вере, укреплялся в благочестии».
Господи, сохрани мне жизнь!
Война стала ощущаться во всей своей страшной силе с июля 1943 года во время Курско-Орловской битвы. Фронт был рядом. Разрывались наши снаряды. Армады по 300-400 немецких самолетов летели бомбить передовую советских войск. Немцы всю молодёжь стали забирать в Германию. Устраивали облавы. Василий с сестрой взяли икону Спасителя, отцовское благословение, Евангелие и, улучив удобный момент, попытались убежать. Но не удалось. И в колонне пленных их погнали под конвоем на запад… Встретиться с родителями довелось лишь после окончания войны.
В сентябре они попали в концентрационный лагерь Пылюкюва, в ста километрах от Таллинна. Здесь находилось около ста тысяч пленных. Кормили плохо. Заедали вши. Смертность была очень высокой. Духовно узников поддерживали таллиннские православные священники. В лагере регулярно совершались богослужения. Нашелся прекрасный хор из беженцев из-под Ленинграда. Служил Михаил Ридигер, отец будущего Патриарха Алексия II. Псаломщиком был Вячеслав Якобс, нынешний митрополит Корнилий. Здесь Василий вновь ощутил силу совместной молитвы. «Православная вера не погибла в сердцах советских людей, она ярко засветилась в лагерях». Молился он и сам. Брал икону Спасителя – отцовское благословение, и просил: «Господи, сохрани мне жизнь. Господи, чтоб меня в Германию не отправили. Господи, спаси меня, родителей, чтобы их увидать!».
Прекрасное человеческое общение
В этом же лагере находился и отец Василий Веревкин с семьёй. По просьбе таллиннского духовенства немцы распорядились выпустить их из лагеря. Священник на свой страх и риск причислил к своей семье и Васю Ермакова с сестрой.
И на Покров, 14 октября, бывшие узники возносили благодарственные молитвы об освобождении в церкви Симеона и Анны в Таллине. С этого дня Василий узнал «новый духовный образ жизни». Он оказался в среде носителей дореволюционных духовных традиций. «Я видел истинных священников, слушал их проникновенные проповеди. Среди прихожан было много эмигрантов из России». Горяча была их молитва.
Василий подружился с Алёшей Ридигером. «Мы с ним вместе пономарили, вместе звонили в колокола, вместе иподиаконствовали у Владыки Павла Дмитриева». «У нас была очень крепкая дружба братьев по вере, братьев по духу. Я на себе глубоко ощутил великую радость духовного общения с семьей отца Михаила, матушки Елены Иосифовны и Алексия. Они учили меня духовной жизни, давали мне духовную литературу». «Я читал немецкие газеты, которые в то время выходили. Там были очень интересные статьи об уничтожении всех церквей в России». «Я встречался с эмигрантами, читал их литературу, воспоминания Краснова, Деникина. Там всё это было. Они меня воспитывали все, и велика во мне память о том прекрасном человеческом общении с этой прекраснейшей семьей». Василий услышал новые точки зрения на исторические пути и судьбы отечества, думы о будущем России после войны. «И мы молились, веря, что «золотое время» наступит».
22 сентября 1944 года в Таллинн вошли советские войска. Церковь встречала их колокольным звоном. Всюду слышалась русская речь. Василий был мобилизован и направлен в штаб Краснознаменного Балтийского флота. Но в свободное время продолжал выполнять самые разные обязанности в соборе Александра Невского в Таллинне: звонаря, иподьякона, прислуж¬ника. В дни победы в сорок пятом над городом разносился пасхальный благовест. «И мы верили, что в жизни России начнется новая эра – эра возрождения национального самосознания».
В июне 1945-го, после окончания войны Василий уехал искать родителей. «Со слезами на глазах прощался с семьей Ридигеров. Провожали меня отец Михаил, матушка Елена Иосифовна, и вполне естественно я помню Лёшу и ещё наших друзей. И я думал, что больше их не встречу».
Я учился понимать душу народа
В 1946 году Василий Ермаков с благословения родителей, подал прошение о приеме в московский Богословский институт. Всё лето ждал вызова. А в августе неожиданно получил телеграмму из Ленин¬града от Алексея Ридигера: «Вася, приезжай в семи-нарию». «.. и по вызову Алексея, «по его сердцу», Василий приехал поступать. Они стали «первооткрыватели наших духовных школ – семинарии и академии».
«В семинарии я проучился три года, а затем еще четыре года – в Духовной Академии. Что я мог вынести из этой духовной школы за 7 лет? Нам привили любовь к Храму. … Мою веру углубили знаниями тех духовных богатств, которые накопила православная церковь за свою многовековую историю; мы также изучали языки, учились пению, а также уме¬нию проповедовать и т.д. И чтобы с Богом на «ты» не говорили. И коль Господь нас призвал служить Богу и людям, то мы должны с верой и старанием отдать себя этому духовному поприщу».
«Я укрепился в своем намерении стать священником. Но я искал, каким я дол¬жен быть. Это было нелегко. На пожилых священниках чувство¬валась печать прошлых гонений. В беседах с нами они избегали говорить, что было в прошлом, быть может, не хотели отпугивать нас, молодых». В размышлениях об образе настоящего священника помогли книги. «Читал дореволюционные духовные издания, раскрывавшие суть духовного под¬вига. Это очень помогло, когда, по окончании Академии в 1953 го¬ду, начал служить в Никольском соборе. Я отошел от привычного стереотипа священника, спустился с амвона к прихо¬жанам, к людям и стал спрашивать: какая нужда, какое горе у человека...» «А время какое было? Не прошло и десятилетия со дня снятия блокады. В церковь пришли фронтовики, блокадники, которым довелось пережить все ужасы войны. Бог сохранил их. И эти беседы были нужны не только им, но и мне». «Я учился понимать душу народа, чувствовать их горе, страдания и как уже мог, по молитве Божьей, я помогал людям в решении житейских вопросов и особенно во¬просов духовных. Как верить. Как идти за Христом. Как исполнять свои духовные обязанности».
Нужно чудо
В Никольском соборе отец Василий прослужил с 1953 года по 1976 год. Затем был переведён в церковь «Кулич и Пасха» в Невском рай¬оне. А в 1981 году стал настояте¬лем храма Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.
Господь, как по ступеням лестницы, подымал Василия Ермакова. Испытывал скорбями, возгревал веру и возводил в большую духовную силу. Василий Ермаков находился в исповедническом противостоянии внешнему миру, созидая внутренний, духовный. Волею судеб Василий оказался в самой гуще истории. Будучи достаточно юным, он не вмешивался активно в события, но впитывал впечатления чистой детской душой. Его, подобно кораблику, несла стремнина истории. И Господь по молитвам сохранял ему жизнь. Он был оберегаем и умудряем родительским наставлением, церковным окормлением, духовной средой эмиграции и позже духовными школами. Входя в учебные духовные школы, Василий имел большой практический жизненный духовный опыт. Он уже познал силу молитвы и обрёл духовную силу, необходимую для подвига пастырства.
В своих проповедях он постоянно размышлял о духовных смыслах истории России, о её прошлом и будущем. «На сороковые годы был план оконча¬тельного уничтожения веры в сердцах русских людей. Но человек предполагает, а Бог – располагает. Мы получили войну, и ком¬мунистические вожди вынужденно признали и православие, и церковь; был избран Патриарх, кое-кого из оставшихся в живых епи¬скопов выпустили из заключения, стали открывать храмы, семи¬нарии и впервые в 1943 году в Новодевичьем монастыре был от¬крыт Богословский институт».
Во время служения в Никольском соборе у батюшки проявился дар прозорливости. «Нужно чудо. Народ ждет чуда, он изнурился пошлостью бездумного существования. А это уже задача священника: ему в молитвенном делании открывается видение, недоступное обычному человеку. Повторяю, такое видение дает не только сан, но и ежедневные долгие моления. И опыт, и знание жизни».
Локальная, малая, встреча с духоносным человеком, является доказательством будущей большой встречи с Господом. Святой имеет свойство, подобно увеличительному стеклу, собирать божественную энергию в своём сердце, и этим духовным лучом возжигать огонь веры в сердцах других. И многие и многие наши современники хранят благодарную память о старце Василии Ермакове.
Людмила Московская,
член Союза писателей России.
Использованы материалы сайта «Россия в красках»
Смотри: вера станет открытой, доступной всем; никого за нее не будут гнать или притеснять. Очень много случайного народа придет в Церковь, в том числе и в духовенство. Так всегда было в дни благополучные, еще со времени Константина святого. Многие из-за денег придут в храм, многие из тщеславия, из-за карьеры и власти. Ты, глядя на это, не искушайся и терпи.
Ищи храм победнее и подальше от центральных площадей. Священника ищи смиренного и простого в вере, потому что “умных” и циничных и теперь развелось много, а смиренных и простых в вере не осталось почти никого.
Многие думают, что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия или особая благодать. Печально, но так cчитает большинство духовенства. Я же тебе так скажу: у священника есть одна привилегия – быть слугой каждому встречному 24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настроения, все равно – иди и служи. У тебя болят ноги или спина, – иди и служи. У тебя в семье проблемы, но ты все равно – иди и служи! Этого требует от нас Господь и Евангелие. Если нет такого настроя – всю свою жизнь положить на служение людям – то займись чем-нибудь другим, не дерзай принимать на себя иго Христово.
А сейчас такое время, что многие идут служить в храм из-за корысти. Так было и до революции, об этом говорил (или кричал даже) отец Иоанн Кронштадтский. Ведь в нашей русской катастрофе ХХ века вина духовенства очень велика...
И я понимаю это, но не завидую тем, кто пришел в Церковь в наши дни. Очень много соблазнов, и очень мало опытных духовников, и их становится все меньше. Вот смотри, в Печорах: уйдут отец Иоанн, отец Феофан, другие старцы, кто придет им на смену?.. Правильно – никто. А ведь духовная жизнь – это путь в темном подземелье. Здесь очень много острых углов и глубоких ям. Здесь важно, чтобы многоопытный проводник вел тебя за ручку, иначе упадешь-пропадешь, сам не вылезешь...
Нам говорят: мало образованных христиан. А что такое образование по-христиански? Этот совсем не то, чем образование в институтах или академиях. Это когда после трудов поста, смирения и молитвы Дух Святой поселяется в человеческом сердце и ОБРАЗУЕТ новое существо...
Помни это...
Хуже всего, когда христианин превозносится в своем сердце над другим человеком, считает себя умнее, праведнее, лучше. Тайна спасения заключается в том, чтобы считать себя хуже, недостойнее всякой твари. Когда живет в тебе Дух Святой, то ты познаёшь свою малость и некрасивость и видишь, что даже самый лютый грешник лучше тебя. Если ты ставишь себя выше другого человека, значит, в тебе нет Духа, и нужно еще много работать над собой. Но самоуничижение – это тоже плохо. Христианин должен идти по жизни с осознанием своего достоинства, потому что он – жилище Святого Духа. Апостол так и говорит: "Вы – церкви Живого Бога". И если ты раболепствуешь перед людьми, то еще далек от того, чтобы стать таким храмом.
А вообще, нам нужно только искренне, от всего сердца и всей души молиться. Молитва привлекает Дух, а Дух убирает из тебя все лишнее, безобразное, и учит, как нужно жить и как вести себя...
Нам кажется, что мы – самые несчастные на земле. Мы и бедные, и больные, и никто нас не любит, и везде нам не везет, и весь мир ополчился на нас. Послушаешь иногда человека и кажется, что перед тобой Иов многострадальный. А посмотришь на него – красивый, румяный, хорошо одетый.
Почему мы преувеличиваем свои несчастья и беды? Может, потому что недостаточно страдаем? Ведь посмотри: по-настоящему больные люди не выказывают свою болезнь, не ноют. Они несут свой крест молчаливо, до самого конца. Вот здесь, в Печорах, была схимница, она всю жизнь провела в скрюченном состоянии, и кто-то слышал от нее жалобы? – нет! Наоборот, люди приезжали к ней за утешением.
Люди жалуются, потому что считают, что должны быть довольны и счастливы здесь, на этой земле. Они не верят в вечную жизнь, в вечное блаженство, а поэтому хотят насытиться счастьем здесь. И если что-то малое мешает этому счастью, они кричат: как нам плохо, хуже всех на земле!..
Не ищи довольства здесь. Это, конечно, трудно усваивается, но полюби боль и страдание, полюби свое "несчастье". Пожелай Царства Божия паче всего, тогда вкусишь свет, тогда все сладкое здесь покажется горькой полынью. Помни: на земле мы живем всего одно мгновение – сегодня родился, а завтра уже могилу роют. А в Царстве Божием будем жить бесконечные веки. Боль, если сильная, то короткая, а если долгая – то можно терпеть. Потерпи немного здесь, чтобы вкусить радость вечную там...
Помнишь слова апостола: "Лучше бы вы не крестились..."? Это – страшные слова, которые во многом относятся к нам. Почему? Потому что внешне мы принимаем православные обряды, а внутри остаемся теми же, что были до крещения или обращения – завидуем, обманываем, испытываем к ближним неприязнь, осуждаем, а самое главное, наше сердце еще не отлепилось от сего мира и не прилепилось ко Господу. Мы верим своей алчности, а не Богу; мы верим своим похотям, а не заповедям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что можно потрогать, увидеть обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как слепоглухие, не разумеем. А ведь без этого христианство не имеет никакого смысла.
Мы, лукавые, пытаемся приспособить христианство к этому миру, чтобы наша вера была служанкой нашей обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. А ведь жизнь духовная – это тесный и неудобный путь. Здесь, извини, нужно с себя шкурку содрать, и не одну, потому что грех пророс в наше естество, и божественное стало для нас противоестественным. Поэтому и нужен крест, каждому нужна своя Голгофа, чтобы умереть в страданиях греха и воскреснуть в радости духа. Это, конечно, не значит, что нужно себя истязать.
Нужно принимать все скорби и болезни, которые обрушиваются на тебя, с благодарностью, а не с ропотом. Если жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя; значит, ты стал, как раскаленное железо под ударами молота. Если увильнешь от ударов, то останешься бесформенным куском металла, а если потерпишь - будешь дивным произведением Божиих рук.
Священник Василий Ермаков