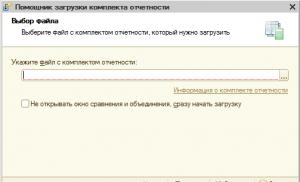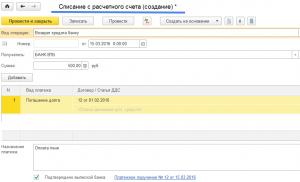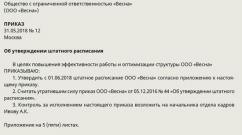В каком году женился достоевский. Федор Достоевский - биография, личная жизнь писателя: Человек есть тайна
Говорить о великом писателе, классике мирового масштаба, одном из величайших властителей дум как о любовнике, муже и мужчине "с сексуальными странностями", мягко говоря, нелегко. Во-первых, неимоверно сложно побороть пиетет. А во-вторых, уж больно сама тема "опасна" - когда называешь вещи своими именами, слова становятся тяжеловесными и грубыми, и трудно соблюсти меру, если речь идет о такой гениальной и больной индивидуальности, как Федор Михайлович Достоевский.
Певец чудовищной эротики?
Многие черты его характера и события жизни продолжают оставаться загадочными и необъяснимыми. Подлинную правду о нем знали только немногие друзья. В своих романах и повестях он так взволнованно говорил о тайнах, провалах и безумиях пола, так настойчиво выводил сластолюбцев, растлителей и развратников, так проникновенно рисовал "инфернальных" (роковых) и грешных женщин, что совершенно естественно возникает вопрос: откуда пришло к нему исключительное знание тяжелой, порою чудовищной эротики его распаленных героев и героинь? Создал он весь этот мир страстей, преступлений и возмездия, взлетов духа и беснования плоти из наблюдений, фантазий или собственного опыта? Кого и как любил он и каким был Достоевский-муж и любовник? Может быть, кое-что в этом рассказе вам покажется неправдоподобным или маловероятным, но ведь Достоевский был гораздо сложнее, чем любой из его героев. Гениальный эпилептик, прошедший через страшные испытания смерти, каторги, нужды и одиночества, патологический любовник и мятущийся искатель святости, он прожил неповторимую, фантастическую жизнь.
Первая любовь
Федор Михайлович Достоевский вырос в семье, над которой безгранично властвовал отец-деспот. Вспыльчивый, угрюмый и подозрительный, он доходил до патологических преувеличений в своих обидах и фантазиях. Михаил Андреевич был способен обвинить в неверности жену на седьмом месяце беременности, а потом мучительно переживать свои сомнения. Почти такой же болезненный характер носили вспышки его гнева. В докторе Достоевском хорошо заметны все признаки двойственности и невроза, которые проявились потом и у его сына. Вполне вероятно, они стали причиной возникновения страшной болезни - эпилепсии.
Мать умерла, когда Федору еще не исполнилось шестнадцати лет. В тот же год его со старшим братом отправили в Петербургское инженерное военное училище. Подросток Достоевский был замкнутым и робким, у него не было ни "манер", ни денег, ни знатного имени. Если сверстники хвастались знанием тайн любви, полученным в объятиях крепостных девок и петербургских проституток, то Федору оставалось только помалкивать.
После с горем пополам оконченного учебного заведения Достоевский сразу же подал в отставку и занялся писательством. Это был единственный способ заработать на жизнь: в восемнадцать лет он остался круглым сиротой с кучей младших братьев и сестер. В 24 года с успехом повести "Бедные люди" перед Достоевским открылись двери петербургских салонов. У литератора Ивана Панаева он знакомится с его женой, Авдотьей Яковлевной, и по уши влюбляется. Через три месяца Достоевский пишет брату: "Я влюблен не на шутку в Панаеву... Болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической". Первая влюбленность была мучительной, а закончилась унизительно. 22-летняя красавица брюнетка Панаева не обратила никакого внимания на худенького белокурого нервного юношу с болезненным цветом лица, а стала любовницей Николая Некрасова, который был и настойчивее и богаче, и более знаменит. Что ж, ее можно понять...
Тем не менее не стоит думать, что несчастный влюбленный был совершенным девственником. По собственному признанию, Федор не отказывался участвовать в товарищеских пирушках, и шумные вечера обычно заканчивались в публичных домах. В 24 года Достоевский писал: "Я так распутен, что уже не могу жить нормально, я боюсь тифа или лихорадки, и нервы больные", а также: "Минушки, Кларушки, Марианны и т.п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь".
Но литературный успех очень быстро сменился провалом. Следующее произведение «Двойник» не понравилось ни публике, ни критике. Достоевский "ушел на дно". Николай Страхов, биограф и близкий друг Достоевского, говорил, что описание молодости героя "Записок из подполья" весьма автобиографично: "В то время мне было всего 24 года. Жизнь моя была угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая... Дома я всего больше читал, но по временам наскучало ужасно... Хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий не разврат, а развратишко... Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями... Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты... Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не узнали... Ходил по самым темным местам..."
К 28 годам Достоевский увлекся утопическим социализмом, попал в кружок Петрашевского, а оттуда, после страшной пытки мнимой казнью, - на каторгу, где встретил свою первую жену.
Жизнь Достоевского не была переполнена бурными романами или мелкими интрижками. Он смущался и робел, когда речь шла о женщинах. Он мог часами мечтать о любви и прекрасных незнакомках, склоняющихся к нему на грудь, но когда ему приходилось встречать невоображаемых, а живых женщин, он становился смешон, и его попытки близости неизменно кончались настоящей катострофой.
Все романы разыгрываются лишь в его вообржении, в жизни он пуглив и одинок: «Точно, я робок с женщинами, я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда, я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними». Во всех своих крупных произведениях Достоевский изображал неудачи любви, связанной с жертвой и страданием: любви торжествующей, радостной и по-мужски уверенной он описывать не умел.
Не следует делать ошибочных выводов, будто Достоевский в двадцатипятилетнем возрасте был девственником. Ризенкампф, живший с ним на одной квартире, вспоминает о большом любопытстве Достоевского к любовным делам товарищей. Сексуальность эта носила, вероятно, двойственный характер. Как и большинство эпилептиков, он, повидимому, обладал повышенной половой возбудимостью – и наряду с ней была в нём мечтательность идеалиста.
Всё было испробовано Достоевским в эти тяжёлые годы –хождение по кабакам и притонам, игра и женщины –и испробовано со стыдом, с раскаянием за несдержанность, с самобичеванием за разврат. Много лет спустя, Достоевский в «Записках из подполья» так описывает свою молодость:
«В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уже и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и всё более и более забивался в свой угол. Всё-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в тёмный, подземный, гадкие не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы были истерические, со слезами и конвульсиями.Накипала сверх того тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединённо, по ночам, потаённо, боязливо, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятья. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же по разным весьма тёмным местам. Скучно уж очень было, сложа руки сидеть, вот и пускался на выверты.»
Когда в 1854 году Достоевский оказался в Семипалатинске, он был зрелым,33-х летним мужчиной. От женского общества он успел настолько отвыкнуть, что мечтал о нём, как о высшем блаженстве.
Через несколько месяцев после приезда в Семипалатинск, Достоевский встретился на квартире подполковника Беликова с Александром Ивановичем Исаевым и женой его Марьей Дмитриевной.
Марья Дмитриевна была довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная, она была начитана, довольно образована, любознательна, и необыкновенно жива и впечатлительна. Вид у неё вообще был хрупкий и болезненный, и этим она порою напоминала Достоевскому его мать.
Нежность её лица, физическая слабость и какая-то душевная беззащитность вызывали в нём желание помочь ей, оберегать её как ребёнка. То сочетание детского и женского, которое всегда остро ударяло по чувственности Достоевского, и сейчас возбудило в нём сложные переживания, в которых он не мог, да и не хотел разобраться. Кроме того, он восхищался её тонкой и необыкновенной, как ему казалось, натурой.
Марья Дмитриевна была нервна, почти истерична, но Достоевский, особенно в начале их отношений, видел в изменчивости её настроений, срывах голоса и лёгких слёзах признак глубоких и возвышенных чувств. Когда Достоевский стал бывать у Исаевых, Марья Дмитриевна пожалела и приголубила странного своего гостя, хотя вряд ли отдавала себе отчёт в его исключительности. Она сама в этот момент нуждалась в поддержке: жизнь её была тосклива и одинока, знакомств она поддерживать не могла из-за пьянства и выходок мужа, да на это не было и денег. И хотя она гордо и безропотно несла свой крест, ей часто хотелось и пожаловаться, и излить своё наболевшее сердце. А Достоевский был прекрасным слушателем. Он был всегда под рукою, он отлично понимал её обиды, он помогал ей переносить с достоинством все её несчастья - и он развлекал её в этом болоте провинциальной скуки. Не редко Марья Дмитриевна оказывалась наедине с Достоевским, который вскоре перестал скрывать своё обожание. Никогда, за всю свою жизнь, не испытывал он подобной интимности с женщиной - и с женщиной из общества, образованной, с которой можно было разговаривать обо всём, что интересовало его.
Весьма возможно, что Марья Дмитриевна привязалась к Достоевскому, но влюблена в него ничуть не была, по крайней мере в начале, хотя и склонялась на его плечо и отвечала на его поцелуи. Он же в неё влюбился без памяти, и её сострадание, расположение, участие и лёгкую игру от скуки и безнадёжности принял за взаимное чувство. Ему шёл 34-ый год - и он ещё ни разу не имел ни возлюбленной, ни подруги. Он искал любви, любовь была ему необходима, и в Марье Дмитриевне его чувства нашли превосходный объект. Она была первой интересной молодой женщиной, которую он встретил после четырёх лет каторги, и он овеял её всеми чарами неудовлётворённых желаний, эротической фантазии и романтических иллюзий. Вся радость жизни воплотилась для него в этой худощавой блондинке. Чувствительность к чужому горю странным образом повышала его эротическую возбудимость. Садистские и мазохистские влечения переплетались в Достоевском самым причудливым образом: любить - значило жертвовать собою и отзываться всей душой, всем телом на чужое страдание, хотя бы ценою собственных мук. Но порою любить значило - мучить самому, причинять страдание, больно ранить любимое существо. На этот раз высшее наслаждение было в жертве, в облегчении страданий той, ради кого он готов был решительно на всё.
То, что Достоевский воспылал к ней настоящей, глубокой страстью, она отлично понимала - женщины это обычно легко распознают - и его "ухажива- ния", как она их называла, она принимала охотно, не придавая им, однако, слишком большого значения.
После, Достоевский довольно хорошо разобрался в тех особенных обстоятельствах, при которых зародилось его чувство к Марье Дмитриевне: "одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни", правдиво писал он впоследствии.
В начале 1885 года Марья Дмитриевна, наконец, ответила на любовь Достоевского. Был ли это попросту момент случайной близости или же отношения их превратились в настоящую связь - сказать трудно. Во всяком случае - произошло сближение. Но как раз в те дни, Исаева назначили заседателем в Кузнецк. Это означало разлуку - быть может навсегда. Летом 1885 года, когда Исаевы двинулись в путь, они остановились попрощаться на даче у знакомого Достоевского. Было подано шампанское, и Врангелю не составило особого труда напоить Исаева и устроить его на мирный сон в карете. Между тем Марья Дмитриевна и Достоевский отправились в сад. По свидетельству Врангеля, молодая женщина к моменту отъезда уже и сама была захвачена своим чувством к Достоевскому. Влюблённые "обнимались и ворковали", держали руки друг друга, усевшись на скамейке, под тенистыми деревьями.
Какой должна быть жена великого человека? Этим вопросом задавались биографы многих известных людей.
Часто ли рядом с великими мужчинами оказываются великие женщины, которые становятся единомышленниками, помощниками, друзьями? Как бы то ни было, Федору Михайловичу Достоевскому повезло: его вторая жена, Анна Григорьевна Сниткина, была именно таким человеком.
Анна Григорьевна Достоевская прожила долгую и насыщенную жизнь, пережив писателя почти на 40 лет.
 Для того, чтобы понять роль Анны Григорьевны в судьбе классика, достаточно посмотреть на жизнь Достоевского «до» и «после» встречи с этой удивительной женщиной. Итак, ко времени знакомства с ней в 1866 году Достоевский был автором нескольких повестей, некоторые из которых были оценены очень высоко. Например, «Бедные люди» - они были восторженно встречены Белинским и Некрасовым. А некоторые, например, «Двойник» - потерпели полное фиаско, получив разгромные отзывы от этих же литераторов.
Для того, чтобы понять роль Анны Григорьевны в судьбе классика, достаточно посмотреть на жизнь Достоевского «до» и «после» встречи с этой удивительной женщиной. Итак, ко времени знакомства с ней в 1866 году Достоевский был автором нескольких повестей, некоторые из которых были оценены очень высоко. Например, «Бедные люди» - они были восторженно встречены Белинским и Некрасовым. А некоторые, например, «Двойник» - потерпели полное фиаско, получив разгромные отзывы от этих же литераторов.
 Если успех в литературе, хотя бы и переменный, но все-таки был, то остальные сферы жизни и карьеры Достоевского выглядели куда плачевней: участие в деле «Петрашевцев» привело его к четырехлетней каторге и ссылке; созданные вместе с братом журналы закрывались и оставляли после себя огромные долги; здоровье было настолько подорвано, что практически большую часть жизни писатель жил с ощущением «на последних днях»; неудачный брак с Марией Дмитриевной Исаевой и ее смерть - все это не способствовало ни творчеству, ни душевному равновесию.
Если успех в литературе, хотя бы и переменный, но все-таки был, то остальные сферы жизни и карьеры Достоевского выглядели куда плачевней: участие в деле «Петрашевцев» привело его к четырехлетней каторге и ссылке; созданные вместе с братом журналы закрывались и оставляли после себя огромные долги; здоровье было настолько подорвано, что практически большую часть жизни писатель жил с ощущением «на последних днях»; неудачный брак с Марией Дмитриевной Исаевой и ее смерть - все это не способствовало ни творчеству, ни душевному равновесию.
Накануне знакомства с Анной Григорьевной к этим катастрофам добавилась еще одна: по кабальному договору с издателем Ф.Т. Стелловским Достоевский должен был предоставить новый роман к 1 ноября 1866 года. Оставалось около месяца, в противном случае все права на последующие произведения Ф.М. Достоевского переходили к издателю. Кстати, Достоевский был не единственным писателем, оказавшемся в такой ситуации: чуть раньше на невыгодных для автора условиях Стелловским были изданы произведения А.Ф. Писемского; в «кабалу» попал В.В. Крестовский, автор «Петербургских трущоб». Всего за 25 рублей были выкуплены сочинения М.И. Глинки у его сестры Л.И. Шестаковой.
По этому поводу Достоевский писал Майкову:
«Денег у него столько, что он купит все русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых».
Ситуация была критическая. Друзья предлагали писателю создать основную линию романа, этакий синопсис, как сказали бы сейчас, и разделить между ними. Каждый из друзей-литераторов мог бы написать отдельную главу, и роман был бы готов. Но на это Достоевский пойти не мог. Тогда друзья предложили найти стенографистку: в таком случае шанс написать роман вовремя все-таки появлялся.
Этой стенографисткой и стала Анна Григорьевна Сниткина. Вряд ли другая женщина могла настолько осознать и прочувствовать сложившуюся ситуацию. Днем роман надиктовывался писателем, ночами главы были расшифрованы и написаны. К назначенному сроку роман «Игрок» был готов. Он был написан всего за 25 дней, с 4 по 29 октября 1866 года.
 Иллюстрация к роману «Игрок»
Иллюстрация к роману «Игрок» Стелловский не собирался так быстро отказываться от возможности переиграть Достоевского. В день сдачи рукописи он просто уехал из города. Приказчик отказался принять рукопись. Обескураженного и разочарованного Достоевского выручила опять же Анна Григорьевна. Посоветовавшись со знакомыми, она уговорила писателя сдать рукопись под расписку приставу части, в которой проживал Стелловский. Победа осталась за Достоевским, но во многом заслуга принадлежала Анне Григорьевной Сниткиной, довольно скоро ставшей не только его женой, но и верным другом, помощником и компаньоном.
«Неточка Незванова»
Чтобы понять отношения между ними, необходимо обратиться к событиям куда более ранним. Родилась Анна Григорьевна в семье мелкого петербургского чиновника Григория Ивановича Сниткина, который был почитателем Достоевского. В семье её даже прозвали Неточкой, по имени героини повести «Неточка Незванова». Ее мать - Анна Николаевна Мильтопеус, шведка финского происхождения, - была полной противоположностью увлекающемуся и непрактичному мужу. Энергичная, властная, она выказывала себя полной хозяйкой дома.
Анна Григорьевна унаследовала и понимающий характер отца, и решительность матери. А отношения между своими родителями она проецировала на будущего мужа: «…Всегда оставались собою, нимало не вторя и не подделываясь друг к другу. И не впутывались своею душою - я - в его психологию, он - в мою, и таким образом мой добрый муж и я - мы оба чувствовали себя свободными душой».
О своем отношении к Достоевскому Анна писала так:
«Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что (он) для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье - овладела моим воображением, и
Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях».
Совместная жизнь с Достоевским
Семейная жизнь Анны Григорьевны и Федора Михайловича также не избежала несчастий и неуверенности в будущем. Им довелось пережить годы почти нищенского существования за границей, смерть двух детей, маниакальную страсть к игре у Достоевского. И тем не менее, именно Анна Григорьевна сумела привести в порядок их быт, организовать работу писателя, освободить его, в конце концов, от тех финансовых долгов, что накопились со времен неудачного издания журналов.
Несмотря на разницу в возрасте и тяжёлый характер мужа, Анна смогла наладить их совместную жизнь.
Жена боролась и с пагубной привычкой игры в рулетку, и помогала в работе: стенографировала его романы, переписывала рукописи, читала корректуры и организовывала торговлю книгами.
Постепенно все финансовые дела она взяла на себя, и Федор Михайлович в них уже не вмешивался, что, кстати, крайне положительно отразилось на семейном бюджете. (Еще бы он вмешивался — взгляд у Анны Григорьевны какой)

Именно Анна Григорьевна решилась на такой отчаянный поступок, как собственное издание романа «Бесы». Прецедентов, когда писателю удавалось самостоятельно издать свои произведения и получить от этого реальную прибыль, на тот момент не было. Даже попытки Пушкина получать доходы с издания своих литературных трудов, потерпели полное фиаско.
Существовало несколько книжных фирм: Базунова, Вольфа, Исакова и других, которые покупали права на издание книг, а затем издавали и распространяли их по всей России. Сколько проигрывали на этом авторы, можно подсчитать довольно легко: за право издавать роман «Бесы» Базунов предлагал 500 рублей (и это уже «культовому», а не начинающему писателю), тогда как доходы после самостоятельного издания книги составили порядка 4 000 рублей.
Анна Григорьевна проявила себя как истинная бизнес-леди. Она вникла в дело до мелочей, многие из которых узнавала буквально «шпионским» образом: заказывая визитные карточки; расспрашивая в типографиях, на каких условиях печатаются книги; делая вид, что торгуется в книжном магазине, узнавала, какие наценки он делает. Из подобных расспросов она выяснила, какой процент и при каком количестве экземпляров следует уступать книгопродавцам.
И вот результат - «Бесы» были распроданы моментально и крайне выгодно. С этого момента основной деятельностью Анны Григорьевны становится издание книг ее мужа…
В год смерти Достоевского (1881) Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Вторично замуж она не выходила и полностью посвятила себя увековечиванию памяти Федора Михайловича. Она семь раз издавала собрание сочинений писателя, организовала квартиру-музей, писала мемуары, давала бесконечные интервью, выступала на многочисленных литературных вечерах.
Летом 1917 года события, будоражащие всю страну, забросили ее в Крым, где она заболела малярией тяжелой формы и через год скончалась в Ялте. Похоронили её вдали от мужа, хотя она и просила об обратном. Она мечтала обрести покой рядом с Федором Михайловичем, в Александро-Невской лавре, и чтобы при этом ей не ставили отдельного памятника, а только вырезали бы на надгробии несколько строк. Последняя воля Анны Григорьевны была исполнена лишь в 1968 году.

Благодаря Ф.М. Достоевскому русская литература обогатилась новым типом героини, в нее вошла «инфернальная женщина». Она появилась в произведениях, которые он написал после каторги. У каждой героини писателя есть свой прототип. Его найти несложно, ведь в жизни Федора Михайловича было всего три женщины, зато какие! Каждая из них оставила свой след не только в его душе, но и на страницах его романов.
В отношениях Достоевский предпочитал мучиться. Возможно, это связано с объективными жизненными обстоятельствами: к моменту первой любви Федору Михайловичу было 40 лет. Он вышел на свободу и и прибыл в Семипалатинск, где воспылал страстью к замужней женщине – Марье Дмитриевне Исаевой, дочери полковника и супруге чиновника-алкоголика. Она не сразу ответила на любовь писателя, успела даже переехать вместе с мужем в другой город, хотя и вела с Достоевским активную переписку.
Впрочем, женитьба на Исаевой не положила конец мучениям Достоевского, напротив, ад только начался. Особенно тяжело стало, когда писателю разрешили вернуться в Петербург. Супруга заболела чахоткой, климат северного города ее убивал, конфликты и ссоры участились…
И тут в жизнь Федора Михайловича вошла, а точнее, ворвалась, 21-летняя Аполлинария Суслова, дочь бывшего крепостного, ярая феминистка. Историй, как они познакомились, множество. Однако наиболее вероятной считается следующая: Суслова принесла Достоевскому рукопись своего рассказа в надежде, что тот не только напечатает ее в своем журнале, но и обратит внимание на амбициозную и яркую девушку. Рассказ появился в журнале, а роман, как знаем из биографии прозаика, случился.
Другой – романтической – версией поделилась дочь Достоевского Любовь. Она утверждала, что Аполлинария отправила ее отцу трогательное любовное письмо, которое, как и ожидала девушка, поразило уже немолодого писателя. Роман оказался еще мучительнее и больнее, чем первый брак. Суслова то клялась Федору Михайловичу в любви, то отталкивала его. Показательна и история с совместной поездкой заграницу. Аполлинария первая уехала в Париж, Достоевский остался в Петербурге из-за больной Марьи Дмитриевны. Когда писатель все же добрался до Франции (задержавшись на несколько дней в немецком казино), любовницы на месте уже не было, она влюбилась в местного студента. Правда, потом девушка еще несколько раз возвращалась к Достоевскому, тот называл ее «больной эгоисткой», но продолжал любить и страдать.
Именно с Аполлинарии Сусловой, как уверены литературоведы, списаны Настасья Филипповна («Идиот») и Полина («Игрок»). Некоторые черты характера молодой любовницы писателя можно найти в Аглае (тоже «Идиот»), Катерине Ивановне («Братья Карамазовы»), Дуне Раскольниковой («Преступление и наказание»). По другой версии, прототипом Настасьи Филипповны могла быть первая супруга Достоевского, которая, как и героиня, была экзальтированной особой, подверженной резким сменам настроения.
Аполлинарии Сусловой, кстати, удалось испортить жизнь еще одному писателю – философу Василию Розанову. Она вышла за него замуж, изводила ревностью и всячески унижала, отказывалась дать развод еще 20 лет, вынуждая бывшего супруга жить во грехе с женой и растить собственных незаконнорожденных детей.
Анна Григорьевна Сниткина – вторая жена Достоевского – существенно отличается от своих предшественниц. Биографы часто представляют их отношения как историю нежной и трепетной любви, припоминая даже, как именно писатель сделал предложение: он рассказал своей стенографистке Анне про любовь немолодого мужчины к юной девушки и спросил, смогла ли она оказаться на ее месте.
Но быстрая женитьба Достоевского и Сниткиной свидетельствует о другом. Федор Михайлович впервые в жизни оказался расчетливым: он решил не упускать прекрасную стенографистку, благодаря которой свершилось чудо – новый роман был написан в рекордные сроки, всего за месяц. Была ли Анна Григорьевна влюблена в Достоевского как в мужчину? Вряд ли. В писателя и гения - безусловно.
 Сниткина родила Достоевскому четырех детей, крепкой рукой вела хозяйство, разбиралась с родственниками, долгами, бывшей любовницей, издателями. Со временем она была вознаграждена – Федор Михайлович полюбил ее, называл своим ангелом и воплотил, как считают некоторые исследователи, в образе Сонечки Мармеладовой, которая своей любовью повернула Раскольникова к свету.
Сниткина родила Достоевскому четырех детей, крепкой рукой вела хозяйство, разбиралась с родственниками, долгами, бывшей любовницей, издателями. Со временем она была вознаграждена – Федор Михайлович полюбил ее, называл своим ангелом и воплотил, как считают некоторые исследователи, в образе Сонечки Мармеладовой, которая своей любовью повернула Раскольникова к свету.
Первая любовь
Творчество всецело поглотило Федора Достоевского, и личная жизнь юноши отошла на второй план, А в 1845 году друзья – Некрасов и Григорович – ввели его в дом Панаевых. Это был один из центров петербургской художественной жизни. Здесь Достоевский пережил свою первую любовь – духовную, идеальную, поэтическую и, прежде всего, – эстетическую.
Иван Иванович Панаев, добродушный легкомысленный человек, занимательный, но неглубокий новеллист, был женат на знаменитой красавице – Авдотье Яковлевне Брянской, дочери известного трагика времен пушкинской молодости. Она росла в атмосфере театрального искусства и готовилась стать танцовщицей. Гибкость фигуры, грация ее движений, лицо с матово-смуглым румянцем и мраморный лоб в оправе гладко причесанных черных волос – все восхищало молодых литераторов. Панаева не была счастлива со своим супругом, который отдавался непрерывным увлечениям. Детей у них не было. Она любила жизнь, празднества... Через несколько лет Панаева станет женой Некрасова, напишет несколько романов и книгу известных мемуаров «Русские писатели и артисты».
Для ознакомления литературного Петербурга с неизданной новинкой – повестью «Бедные люди» – Панаев устроил у себя специальный вечер. Произведение читал сам Достоевский и произвел своим чтением на всех потрясающее впечатление.
Добрая и участливая Панаева отнеслась к молодому литератору с присущим ей теплым вниманием, не догадываясь о той роли, какую сыграет она в его жизни.
Достоевский был пленен красотой этой двадцатипятилетней женщины, ее отзывчивым сердцем и глубоким умом.
«Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его, – писал Достоевский брату 16 ноября 1845 года. – Она славится в Петербурге. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя». И через несколько недель: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит...»
Вскоре Достоевский перестал бывать в доме Панаевых. Но это увлечение не прошло бесследно для его творчества. Через двадцать лет Достоевский в своем любимейшем создании – в «Идиоте» – увековечит эту отмеченную внутренней болью и тревожной думой красоту.
«Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты...»
Красота в изображении Достоевского становится духовной, перерождается в нравственное начало, кладется в основу проблемы доброты.
«Добра ли она?» – спрашивает князь Мышкин, глядя на фотопортрет Настасьи Филипповны.
Брак
В Семипалатинске ссыльный писатель пережил большое чувство, связанное с волнениями, страданиями, но доставившие ему незабываемые минуты высшей полноты бытия.
Здесь он познакомился с семьей Исаевых. Муж – чиновник, не способный регулярно работать, алкоголик, обрекший жену и сына на острую нужду, отчасти послужит Достоевскому прообразом Мармеладова в «Преступлении и наказании». Жене Исаева Марии Дмитриевне часто приходилось охранять ребенка от буйного отца, который в пьяном виде доходил до невменяемости. Гордо и безропотно несла она свою участь. Достоевский характеризует ее как «умную, образованную, грациозную, с великодушным сердцем». Она представляется ему натурой мятущейся, порывистой, самобытной, окрыленной, возвышенной и смелой. В то время Марии Дмитриевне было двадцать шесть лет. Вот как описывает ее А. Врангель, друг Достоевского: «Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитана, довольно образованна, любознательна, добра и необычайно жива и впечатлительна!»
Со всем пылом молодости влюбился Достоевский в Марию Дмитриевну, а с ее стороны было больше жалости и сострадания, нежели любви к ссыльному.

Тяжело переживает Достоевский разлуку с Марией Дмитриевной, которая уезжала с мужем в сибирский городишко Кузнецк. По словам Врангеля, Достоевский ходил как помешанный, рыдая навзрыд, как ребенок.
Завязывается переписка. Мария Дмитриевна жалуется на лишения, болезнь, тягостное чувство одиночества. Вскоре умирает ее муж.
Достоевский отдается устройству Марии Дмитриевны. Он достает для нее деньги у Врангеля, хлопочет об определении восьмилетнего Паши в корпус. И вдруг – письмо от Исаевой, в котором она сообщает, что полюбила молодого учителя Вергунова и, очевидно, выйдет за него замуж.
Достоевский пишет своему другу письма, полные отчаяния: «Трудно передать, сколько я выстрадал... Я трепещу, чтобы она не вышла замуж... О, не дай. Господи, никому этого страшного грозного чувства! Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить!»
Достоевского волнует полная материальная неустроенность Исаевой с бедным учителем. И он пишет письмо к Врангелю, в котором просит его похлопотать о повышении жалованья Вергунову. Это письмо – показатель высоты, какой могла достичь в жизни горячая и неудержимая в своем полете душа писателя.
Вскоре Достоевского производят в прапорщики. И он мечтает увидеть Марию Дмитриевну. «Я ни о чем больше не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать! – пишет он Врангелю. – Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь. Я это чувствую!» И к брату: «Ту, которую я любил, я обожаю до сих пор... Это ангел божий, который встретился мне на пути, и связало нас страдание».
Писатель едет в Кузнецк, говорит Марии Дмитриевне о своем постоянном неугасающем чувстве, возлагает надежды на возврат в литературу. И наталкивается на раздвоение женского сердца. Мария Дмитриевна металась и томилась в поисках спасения из водоворота влечений: писатель Достоевский – или полунищий, но молодой и красивый, учитель. Глубокий психолог Достоевский верит в то, что умная женщина сделает выбор в его пользу. Он объясняется с учителем. Последний уступает. Достоевский вновь умоляет Врангеля устроить судьбу незадачливого Вергунова. Побратавшиеся соперники – это одна из главных тем будущего «Идиота».
Неутолимую энергию проявил Достоевский в обустройстве своего дома. Письма к родственникам в Петербург, Москву, местные займы помогли ему одеть бедную невесту, заплатить за венчание и свадьбу.
Кузнецкая свадьба 1857 г. развертывается в потрясающую картину брачной ночи князя Мышкина в романе «Идиот». Это произведение – следствие душевных потрясений писателя во время его пребывания в Семипалатинске.
К сожалению, желанного счастья в своем браке Достоевский не нашел. Мария Дмитриевна часто болела, капризничала и ревновала. Сцены ревности постепенно подрывали семейное согласие. Костер любви угасал. И в одном из писем писатель заявил: «Жизнь моя тяжела и горька». Творчество отвлекало его от горестей семейной жизни. Тогда он работал над двумя повестями: «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково».
Три письма
Неизгладимый след в памяти Достоевского оставила комедийная актриса Александра Ивановна Шуберт. Дочь крепостных, она отличалась демократичностью взглядов и сочувствием простому народу. Вторым мужем ее был врач С.Д. Яновский, друг писателя, который в 40-х годах его лечил. Александре Ивановне шел двадцать третий год, но она уже считалась одной из лучших актрис своего времени. Любимая ученица Щепкина переняла от своего учителя отвращение к рутинным эффектам и стремление к художественной правде. Густые черные волосы обрамляли лицо маленькой худенькой девушки, на котором особенно выделялись чрезвычайно живые глаза. Ее влекло к писателям. В Одессе она встречалась с Гоголем. И Достоевский с его судьбой был ей очень интересен. Федор Михайлович тогда чувствовал себя в полном расцвете творческих сил. В письмах он сообщает ей о работе над «Униженными и оскорбленными», о задуманном журнале, о своих драматургических замыслах: «Если б у меня был хоть малейший талантишка написать комедийку, хоть одноактную, я бы написал для Вас. Хочу попробовать. Если удастся, то поднесу ее Вам в знак моего глубочайшего уважения...»
Писатель откровенно признается Александре Ивановне в своем искреннем уважении:
«Очень бы желал заслужить Вашу дружбу. Вы очень добры, Вы умны, душа у Вас симпатичная, дружба с Вами хорошее дело. Да и характер Ваш обаятелен: Вы артистка; Вы так мило иногда смеетесь над всем прозаичным, смешным, заносчивым, глупым, что мило становится Вас слушать».

Взволнованно ложатся на бумагу строки: «Прощайте. Целую еще раз Вашу ручку и искренне от всего сердца желаю Вам всего, всего самого светлого, беззаботного, ясного и удачного в жизни. Ваш весь, уважающий Вас бесконечно Ф. Достоевский».
Александра Ивановна в мемуарах избегает подробно описывать отношения с Достоевским. Но известно, что в один из периодов своей жизни она решается на разрыв с мужем, уезжает в Москву, где открыто встречается с близким ей человеком...
Но вскоре жизнь заставляет изменить сложившуюся ситуацию, и Достоевский осторожно, точно действует, чтобы прервать этот роман.
«Увижу ли я Вас, моя дорогая?.. – пишет он актрисе. – Не удастся ли нам с Вами поговорить по сердцу? Как я счастлив, что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы. Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю очень и горячо, до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что дорожил Вашим правильным мнением... Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в Вас! Это мне дает возможность быть еще преданнее Вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно...»
Около полувека хранила у себя Александра Ивановна три письма к ней Достоевского и лишь незадолго до смерти рассталась с ними. Она скончалась в Москве в 1909 году в возрасте восьмидесяти двух лет.
Глубокое увлечение
В начале 60-х годов Достоевский испытал глубокое увлечение Аполлинарией Сусловой. Девушка родилась в семье крепостного крестьянина, которому впоследствии удалось откупиться у своего помещика, поселиться в Петербурге и дать детям высшее образование. Старшая, Аполлинария, слушала в Петербургском университете публичные лекции знаменитых профессоров, посещала чтения двух недавних политических изгнанников – Шевченко и Достоевского.
Автор «Записок из мертвого дома» своим страстным чтением вызывал овации «новых людей». Он поразил ее воображение, ослепил своим мученичеством и славой, вызвал желание посвятить себя великому и героическому. В письме к Достоевскому Аполлинария выражает восхищение им. Писателя оно взволновало своей искренностью. И Федор Михайлович пошел навстречу горячему молодому чувству.

40 лет исполнилось Достоевскому. Сусловой в то время было 22. Удлиненный овал лица и очертания светлого лба поражали своей безупречной чистотой. Темные волосы, высоко уложенные в тугой косе, обвивающей голову, переливались, как шелковая ткань на солнце. Огромные, задумчивые глаза смотрели удивленно и чуть-чуть наивно. В чертах – тонкая одухотворенность напряженной мысли и затаенное страдание. И только в губах что-то простонародное, даже крестьянское.
Достоевский – ее первое глубокое увлечение. В своем дневнике Аполлинария пишет: "Я ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая".
В Достоевском она увидела духовного титана и была счастлива. А он открыл Сусловой литературное поприще, напечатав в своем журнале рядом с романом «Униженные и оскорбленные» ее рассказ.
Но вскоре чувство Аполлинарии слабеет. Она не может принять некоторые стороны характера писателя, которые снижали идеальный образ. К разногласию вели и их противоположные взгляды на жизнь. Суслова отрицала «старый мир» с его искусством, религией, национальной культурой, то есть все то, что было дорого Достоевскому. Пылкая и решительная, она примыкала к крайним политическим течениям и даже готовила себя к цареубийству.
Связь разных по убеждениям людей продолжалась в течение семи лет с перерывами и разлуками. И хотя возлюбленные много спорили, дискутировали, Достоевский высоко оценил это жизненное счастье, подаренное ему судьбой.
«Твоя любовь сошла на меня как божий дар, нежданно, негаданно, после усталости и отчаяния. Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много и так много уже отдала, она воскресила во мне веру и остатки прежних сил», – так говорит Достоевский в повести Сусловой «Чужая и свой», в которой она правдиво изобразила их отношения.
Путешествие с Аполлинарией по Европе послужило Федору Михайловичу материалом для одной из его лучших повестей «Игрок».
Незабываемое чувство
Среди женщин, пленявших Достоевского, Анна Васильевна Корвин-Круковская была одной из самых выдающихся и даровитых. Эта начинающая писательница, сестра знаменитой впоследствии Софьи Ковалевской, отличалась красотой и гордым характером.
Высокая, стройная, с тонкими чертами лица, с длинными белокурыми волосами, лучистыми зелеными глазами, она чуть ли не с семилетнего возраста привыкла быть царицей на всех детских балах.
Отец ее, генерал-лейтенант, богатый помещик, человек строгих правил, и не мыслил видеть спутником жизни своей дочери бедного писателя. Поэтому бурю негодований вызвал в родовом замке Круковских поступок Анны, которая, увлекшись литературой, стала посылать свои рассказы в редакцию «Эпохи» и получать от Достоевского гонорары. А позже, узнав о симпатии писателя к его дочери, генерал многозначительно поспешил ей напомнить: «Помни: Достоевский – человек не нашего общества».
Все же Достоевский не переставал бывать в доме московских родственников Анны, куда приехала семья Круковских. Он очень увлекся старшей сестрой и стал неожиданно предметом первой любви младшей – подростка Сони, сохранившей навсегда чувство глубокой дружбы к первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути. Позже Софья Ковалевская, профессор Стокгольмского университета, лауреат многочисленных академий мира, посвятит этому чувству не одну страницу своих «Воспоминаний детства и автобиографических очерков».

Восемнадцатилетняя Анна вскоре поняла, что жена Достоевского должна всецело ему себя посвятить Они часто спорили, главный предмет споров – нигилизм. Нервный, требовательный Достоевский захватывал ее, лишая возможности быть самой собою. Но страстный шепот Федора Михайловича однажды вечером остался для нее незабываемым долгие годы: «Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я Вас полюбил с первой минуты, как Вас увидел; да и раньше по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я Вас люблю, а страстью, всем моим существом...»
Увлечение нигилисткой из аристократов оставило след и в памяти писателя: «Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное доброе сердце. Эта девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым...».
Второй брак.
В 1866 году по контракту, заключенному с издателем, Достоевский должен был к ноябрю представить новый роман не менее десяти печатных листов. Сроки поджимали, роман еще не был написан. Потребовалась стенографистка.
В октябре в дом Достоевского вошла двадцатилетняя Анна Григорьевна Сниткина, ученица преподавателя стенографии, одного из знакомых писателя. Началась работа. Первые диктовки проходили в напряжении, но точные стенограммы его секретарши вносили понемногу успокоение. Вскоре роман был готов. За 26 дней были созданы десять печатных листов «Записок молодого человека». С их окончанием устранилась угроза, тяготившая Достоевского: перспектива одиночества, опасность продолжать свою напряженную писательскую жизнь без близости любящего человека.
Молодая, миловидная Анна Григорьевна обладала своеобразной привлекательностью: прекрасные серые глаза, умные и лучистые, открытый лоб, энергичный подбородок. Вскоре эта милая девушка и остроумная собеседница почувствовала, что Федор Михайлович охотно делится с ней своими планами, воспоминаниями и с каждым днем относится к ней все внимательнее и сердечнее. Могла ли предполагать она, что еще в течение четырнадцати лет будет стенографировать произведения Достоевского?
Дочь одного из служащих придворного ведомства и матери-шведки, она получила в приданое большой дом, квартиры которого сдавала. Это приносило значительный годовой доход. В юной хозяйке развились такие качества, как житейская деловитость, понимание денежных взаимоотношений как основы современного ей общества, умение легко разбираться в юридических казусах, отчетливый практицизм. Это была ее подготовительная школа к жизни, вскоре заставившей вступить в борьбу с кредиторами, скупщиками векселей, ростовщиками.
Своим приятелям Достоевский сообщает: «Я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравится... Я предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчались. Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет».
В этом он не ошибся. Большую самоотверженность, готовность отдать все свои средства для избавления любимого человека от страшного бремени чужих и своих долгов, терпимость, понимание, моральную поддержку и верную любовь нашел Достоевский в своей новой спутнице жизни.

Жена Достоевского, прожив до преклонного возраста, в своих мемуарах раскрывает неведомые нам и неожиданные черты в личности своего мужа. Федор Михайлович, баюкающий детей, устраивающий им рождественскую елку, танцующий с женою вальс, кадриль, мазурку под аккомпанемент детского органчика; мыслитель и психолог, обнаруживающий тонкое понимание дамских нарядов, питающий вообще пристрастие к изящным вещам: хрусталю, вазам, художественным изделиям, – все это дополняет жизненный облик писателя.
«Это был самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда либо знала, – пишет Анна Григорьевна. – Солнце моей жизни – Федор Достоевский».