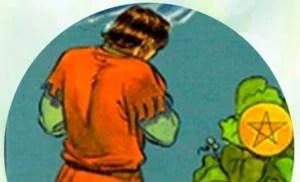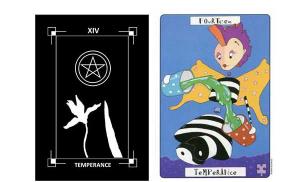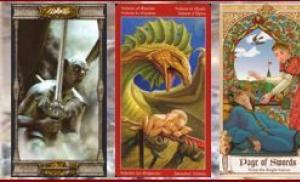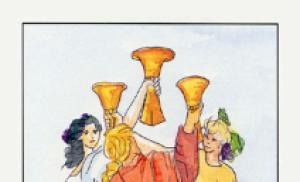Когда было патриаршество на руси. Избрание патриархов на руси
"Патриарх Московский и всея Руси" - при всей древней торжественности этот титул прочно вошел в современный медиаоборот. Чей патриарх главнее, древнее, авторитетнее? - мы задаем эти вопросы как современные. Историю патриаршества в России "РГ" обсуждает с доктором исторических наук, профессором МГУ и деканом историко-филологического факультета Российского православного университета Сергеем Перевезенцевым.

Как и почему у нас возникло патриаршество?
Сергей Перевезенцев: Патриаршество на Руси официально возникло в конце XVI века. Но еще в середине XV века произошла известная Флорентийская уния, на которой Константинопольский патриарх признал главенство Римского Папы и согласился исповедовать в Православной церкви католические догматы. Большинство православного мира (в том числе и в самом Константинополе) восприняло весть об унии крайне критически. И на Руси в том числе. Митрополита-грека, приехавшего в Москву с Флорентийского собора и объявившего эту весть, вскоре просто выгнали из страны. А когда в 1453 году турки-османы взяли Константинополь и Византийская империя погибла, на Руси это восприняли как Божье наказание за предательство веры. С конца XV века стало заметным стремление русских богословов, политиков и мыслителей утвердить идею о том, что в мире осталась только одна-единственная независимая православная держава - Русь, Россия. С этим нарастающим ощущением единственности соглашались и все восточные христиане, уповавшие на то, что Россия их освободит от турецкого владычества. В итоге в середине XV века утверждается автокефалия (независимое самоуправление) русской митрополии, а через 150 лет - и патриаршество, пятое вслед за четырьмя предшествующими. Константинопольский, Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский патриархи существовали с древности, где-то с IV века. На Руси они все именовались Вселенскими и почитались главными в решении богословских вопросов. Но до середины XVII века к греческой церкви сохранялось критическое отношение, считалось, что греки предали веру. Только церковная реформа патриарха Никона и царя Алексея Михайловича в середине XVII столетия перенесла на Русь правила греческой церкви, но она же привела и к расколу, очень многие не приняли новшеств и стали "старообрядцами".
Сколько патриархов сегодня в мире, какова их иерархия и значимость?
Сергей Перевезенцев: Сегодня официально признается существование 15 поместных православных церквей. Во главе их не обязательно стоят патриархи, может стоять (как, например, в Элладской церкви) и архиепископ. В православной традиции нет правила единого главы всей церкви. Главы каждой из поместных церквей равны между собой и самостоятельны в принятии решений на подчиненных им церковных территориях. Вмешательство других церквей порождает политические конфликты. Такой конфликт как раз сейчас существует между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами из-за православных приходов в Катаре.
Из него в том числе выросла невозможность собрать по-настоящему Всеправославный собор на Крите?
Сергей Перевезенцев: Да, это одна из причин отказа Антиохийской церкви от участия в Соборе на Крите. Конфликт по поводу некоторых канонических территорий существует и между Сербской и Румынской церквями. В 90-е годы был конфликт между Константинопольским патриархом и Русской православной церковью, когда часть эстонских приходов ушла под власть Константинополя. Хотя тот с канонической точки зрения не имел права брать под себя эти приходы. Но и эти конфликты подчеркивают важную вещь: в Православной церкви нет единого главы, которому все обязаны подчиняться. Это - с древности - традиция Римского Папы, и во многом именно она послужила разделению церквей в XI веке. Константинопольский патриарх отнюдь не является "главным" в Православной церкви, лишь "старшим по чести" - признается некое его старшинство, но не юридическое, а моральное.
Название патриарших титулов менялось?
Сергей Перевезенцев: Конечно. Патриарх он тоже епископ, а в епископский титул обычно включаются названия тех территорий, на которые распространялась власть той или иной церкви. После присоединения Малой и Белой Руси во второй половине XVII века Московский патриарх стал носить титул Патриарха Белой и Малой Руси. В XIX веке уже не было понятия Русь, говорили: Россия.
Но сегодня мы говорим "...всея Руси", однако слово "Русь" теперь стало обозначать весь мир, который духовно и культурно связан с нашей церковью?
Сергей Перевезенцев: Да, за этим стоит идея Русского мира. Не политического, не обозначенного государственными границами, не связанного ни с какой экспансией, но мира духовного. Под словом "Русь" подразумевается духовная связь людей, живущих в разных концах Земли, но исповедующих православие и признающих ценности русского мира как главные для себя.
Чем вы объясните почти двухвековой пропуск в истории патриаршества? Насколько было важно его возрождение в начале XX века?
Сергей Перевезенцев: В этот период русской истории Церковь оказалась подчиненной государству. Этот процесс начался задолго до правления государя Петра Первого. Еще во времена его отца, Алексея Михайловича, предпринимались попытки подчинить Церковь государству и в экономическом, и в политическом, и в судебном смысле, но окончательно эта тенденция возобладала в XVIII и XIX столетиях. Результаты были противоречивыми. С одной стороны, Церковь получала прямую государственную поддержку, например, в своей миссионерской деятельности на Востоке. Именно в XVIII и XIX веках прославились великие православные миссионеры - Иннокентий Иркутский, Иннокентий Московский, просвещавшие Сибирь и Аляску. Но, с другой стороны, на Церковь - в народном мнении- возлагались все государственные грехи. И это имело серьезное отрицательное значение. Недаром в конце XIX - в начале XX века и в русских интеллектуальных, и в священнических кругах возникает движение за восстановление патриаршества. Еще перед Первой мировой войной планировался Собор, на котором должен был быть решен этот вопрос. И государь Николай II это дело поддерживал. Война не дала его провести. И сегодня, мне кажется, Церковь должна быть самостоятельной организацией.
Что собой представляли патриархи как личности. Среди них есть святые. Наверное, есть и неудачники?
Сергей Перевезенцев: Быть патриархом - тяжелое дело. Он ведь несет духовную, нравственную, физическую, юридическую ответственность за всю Церковь. Не говоря уж о том, что человек, находящийся на этом высочайшем посту, должен быть идеалом нравственной чистоты. Потому что именно через него чаще всего воспринимается и сама церковь.
Надо сказать, что большинство глав Русской церкви, начиная с XI века (со времен первых митрополитов), были людьми очень высокой культуры, глубокими знатоками и последователями христианского вероучения. Трудно назвать кого-то, откровенно сделавшего что-то плохое. Правда, один епископ в начале XVII века, при Лжедмитрии I, согласился занять патриарший престол после того, как с него силой свели первого русского патриарха Иова и отправили доживать в монастырь. Но он потом сбежал из Москвы и сейчас не вспоминается среди патриархов.

Первый патриарх Московский Иов. В 1989 году прославлен как святой. Фото: wikipedia.org
Какое место занимает Патриарх Московский и всея Руси среди других патриархов?
Сергей Перевезенцев: Номинально - пятое. На первом месте стоят первые четыре. Но фактически Русская православная церковь сейчас самая многочисленная по числу воцерковленных людей. Ее приходы находятся по всему миру. Поэтому фактически Русская православная церковь сейчас занимает положение, равное Константинополю. И по авторитету она одна из самых влиятельных. Не случайно на довольно часто проходившие в последние годы встречи Константинопольского патриарха с Папой Римским никто не обращал внимания, а встреча Святейшего патриарха Кирилла с ним вызвала огромный ажиотаж.
Краткая история русского патриаршества
Патриаршество в Москве было учреждено в 1589 году. Первым патриархом был Иов. В 1721 году оно было упразднено. Последовал так называемый синодальный период в истории Русской православной церкви, когда ею управлял Священный синод. В 1917 году на Всероссийском поместном соборе патриаршество было восстановлено. Патриархом стал митрополит Московский Тихон (Беллавин).
Как менялось название патриаршего титула
Первый патриарх Иов именовался "святейшим Патриархом царствующаго града Москвы и Великаго Росийскаго царствия" и "Патриархом царствующаго града Москвы и всеа Русии".
"Всеа Руссии и всех северных стран Патриарх" - так обычно звучал титул до петровских времен. "Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх" - так писал свой титул патриарх Никон. На гробнице патриарха Адриана его титул написан так: Архиепископ Московский и всея России и всех северных стран Патриарх.
Патриарх Тихон носил титул "Московский и всея России". Современная форма "Святейший Патриарх Московский и всея Руси" была выбрана патриархом Сергием (Страгородским) в 1943 году, но она использовалась и в древности.
Кандидат в патриархи должен быть по Уставу церкви архиереем РПЦ не моложе 40 лет, иметь высшее богословское образование и достаточный опыт церковного управления епархией. Сан патриарха является пожизненным.
Говоря об учреждении патриаршества на Руси, следует остановиться на предыстории данного вопроса, начав не с XVI века, а несколько ранее. После свержения золотоордынского ига и объединения удельных княжеств вокруг Москвы, Русь из раздробленного государства превратилась к середине XVI века в сильное, независимое, централизованное государство под властью православного государя. Бракосочетание князя Иоанна III с Софией Палеолог в 1472 году возвысило значение русского властителя, как преемника византийских императоров. Новый этап в истории политической власти на Руси — это венчание на царство Иоанна Грозного святителем Макарием в 1547 году. В то время это был единственный в мире православный царь, свободный от варварского притеснения, а Московское царство восприяло высокое служение третьего Рима. Формирование этой идеологии произошло после принятия Византией Ферраро-Флорентийской унии и последовавшего вскоре падения Константинополя под ударами турок магометан.
После венчания Московского государя святителем Макарием сан митрополита, стоящего во главе Русской Церкви, уже не соответствовал высокому положению ее Предстоятеля. По утвердившимся на Руси византийским представлениям, рядом с православным царем должен был находиться глава Церкви в сане патриарха. После этого, очевидно, на Руси появилась мысль об учреждении патриаршества, отголоском чего может служить Собор 1564 года, утвердивший за Предстоятелем Русской Церкви право ношения белого клобука.
Учреждению патриаршества на Руси способствовало тяжелое положение Константинопольского Патриархата. Начиная с середины XV века, после падения Константинополя, султан Мухамед II предоставил грекам относительную религиозную свободу. Патриарху Геннадию II Схоларию он дал полномочия над православной частью населения в Турецкой империи и, таким образом, вовлек его в административную структуру государства. Но в целом положение православных было бесправно, поэтому патриарх Геннадий Схоларий был вынужден вскоре покинуть кафедру.
В последующее время грекам при поставлении нового патриарха пришлось давать султану дары (бакшиш). Позднее это приняло обязательный характер. При возникавших разделениях в духовенстве на соперничающие партии каждая из них старалась предложить султану большую плату за поставление своего кандидата. Подобные разделения в духовенстве стимулировались турецким правительством, так как частая смена патриархов доставляла султану только выгоды. Все это ложилось тяжелым бременем на Церковь. Поэтому Константинопольские патриархи обращаются в Москву с просьбой о помощи. Обращаясь к московским митрополитам, они просят их быть ходатаями за них перед
царем. Русь всегда отзывалась на эти просьбы о помощи и посылала богатые милостыни на Восток. С конца XVI века Восточные патриархи лично посещают Русскую Церковь. Первый приезд Константинопольского патриарха в Россию и послужил толчком к началу конкретных усилий по учреждению патриаршества на Руси.
В 1584 году, после смерти царя Иоанна Грозного, царский престол занял его сын Феодор. Большую роль в управлении государством в это время играл брат царской жены Ирины, Борис Годунов. Набожность и любовь нового царя к Церкви способствовали оживлению мысли о необходимости учреждения патриаршества.
12 июня 1586 года в Москву прибыл патриарх Антиохийский Иоаким VI. 25 июня царь торжественно принял его. Патриарх вручил царю рекомендательные грамоты от патриархов Константинопольского Феолипта II и Александрийского Сильвестра, а также привезенные святыни: частицы мощей святых мучеников Киприана и Иустины, золотую панагию, частицу Животворящего Креста, ризы Богоматери, десницу царя Константина и др.
Вести переговоры об учреждении патриаршества в Москве было поручено Борису Годунову. Но Антиохийский патриарх не решился на этот шаг, сославшись на то, что такое важное дело подлежит компетенции всего Собора. Тогда его попросили ходатайствовать перед Восточными патриархами об утверждении в Москве патриаршества. К 4 июля все переговоры были закончены, и патриарх, совершив паломничество в Чудов и Троице-Сергиев монастыри, выехал из Москвы.
Спустя два года сменились Предстоятели как Русской, так и Константинопольской Церквей. На Московскую кафедру в декабре 1586 года был возведен архиепископ Ростовский Иов, а Константинопольский патриарший престол в третий раз занял бывший до того времени в ссылке патриарх Иеремия II. Он принадлежит к числу наиболее замечательных Византийских патриархов турецкой эпохи. Монашеский путь он начинал в обители Иоанна Предтечи близ Созополя, откуда был возведен на митрополичью кафедру в Лариссе, а после нее — на патриаршую. Став патриархом, он вскоре созвал Собор, на котором была осуждена симония, а также запрещен емватикий (подарки духовенства вновь назначенным архиереям).
Заняв Константинопольский престол в третий раз, патриарх Иеремия II нашел Церковь в крайне бедственном состоянии. Кафедральным собором завладели турки, превратив его в мусульманскую мечеть, а патриаршие кельи были разграблены и разрушены. Все это предстояло строить заново, а средств у патриарха не было. Поэтому он решил сам отправиться за помощью в Россию.
Его путь в Москву лежал через Речь Посполитую. Находясь во Львове, патриарх обратился к канцлеру Яну Замойскому с просьбой дать ему пропускную грамоту. Об их встрече известно из писем Яна Замойского. Он сообщает, что речь шла о возможности перенесения патриаршего престола в Киев, где некогда находилась кафедра Митрополита «всея Руси, а также Московии». Ян Замойский высказывает надежду о возможном объединении Православной Церкви с Католической. По словам канцлера, патриарх Иеремия также «не был чужд» этим проектам. Патриарх высказал свои соображения, очевидно, склоняясь к тому, чтобы оставить Константинополь.
Когда патриарх прибыл в Москву, из первой же беседы с ним стало ясно, что он приехал только за помощью, а Соборного решения об учреждении патриаршества на Руси не привез. Это поставило московское правительство перед выбором: либо отпустить его без больших субсидий — и тем самым лишиться возможности учредить патриаршество, открывшейся в связи с первым посещением Руси главой Вселенской Церкви; либо одарить его богатой милостыней в надежде, что данный вопрос будет решен на Востоке, хотя история с патриархом Иоакимом показала, что полагаться на словесные обещания нельзя, Наконец, можно было задержать патриарха Иеремию и убедить его поставить патриарха на Москве.
Был избран последний вариант, и на это были особые причины. К тому времени стало известно содержание переговоров канцлера Яна Замойского с патриархом Иеремией по дороге в Москву, что очень встревожило русское правительство и побудило его к более энергичным действиям. Патриарха окружили людьми, которые умело убеждали его, стараясь склонить к признанию возможности поставить на Руси патриарха самому.
Постепенно патриарх Иеремия стал склоняться к признанию за Русской митрополией автокефалии, подобно Охридской. Это не понравилось митрополиту Монемвасийскому Иерофею, однако патриарх на его доводы сказал: «Но если они хотят, то я останусь в Москве Патриархом».
В Москве понимали, что иметь во главе Русской Церкви Вселенского патриарха весьма лестно, но, с другой стороны, видеть на Московском престоле подданного турецкого султана было нежелательно.
Для обсуждения данного вопроса царь созвал боярскую думу. Всю инициативу, как мы видим, берет на себя не Церковь, а правительство. Оно допускало и такую возможность, чтобы Иеремия был лишь титулярным патриархом и жил во Владимире, а фактически Русской Церковью по-прежнему управлял бы святитель Иов. В этом случае после смерти Иеремии его преемником стал бы уже русский патриарх. Зная также византийское представление о неразрывности патриарха и царя, русские были уверены, что, согласившись на патриаршество в принципе, Иеремия не захочет быть в удалении от царя, и тогда ему придется поставить патриархом другого кандидата — русского.
13 января 1589 года к Константинопольскому патриарху отправилось официальное посольство в составе боярина Бориса Годунова и дьяка Андрея Щелкалова, которые от имени царя просили, чтобы он «благословил и поставил в Патриархи из Российского собору преосвященного Митрополита Иова». Патриарх Иеремия вынужден был, по выражению митрополита Иерофея, «нехотя против своей воли согласиться поставить Патриарха, а самому отпроситься домой». Иначе рассказывает об этом архиепископ Элассонский Арсений: «Преславный и превеликий Константинопольский Вселенский Патриарх ответил на это посланным Собором епископам: Да свершится воля Всемогущего всеми благословляемого Господа, чье решение всегда правильно, да свершится также желание величайшего царя всея Руси, Владимирского, Московского и всего Северного края, и достопочтеннейшей повелительницы, царицы Ирины, а также епископов и Собора!».
На Соборе царь рассказал об истории отношений русской и греческой иерархий, а также о ходе переговоров, и предложил Собору посоветоваться о том, как благополучно совершить это важное дело. Отцы Собора, посоветовавшись, всецело положились на волю государя. Поскольку Чин поставления митрополитов показался недостаточно торжественным, был утвержден новый Чин, составленный патриархом Иеремией.
23 января 1589 года в Успенском соборе в присутствии патриарха Иеремии состоялось избрание и наречение первого Русского Патриарха. По указанию патриарха Иеремии русские архиереи избрали трех кандидатов в патриархи и по три кандидата на каждую митрополичью кафедру — в Великий Новгород, Казань и Ростов. После избрания всем освященным Собором отправились в царские палаты. Из трех кандидатов в патриархи царь избрал митрополита Иова. Затем царь сообщил святителю Иову о его избрании, а патриарх Иеремия благословил его. В заключение царь избрал из представленных кандидатов митрополитов на преобразуемые кафедры.
26 января состоялось торжественное посвящение первого новоизбранного Московского патриарха. Интронизация проходила по выработанному чину, причем, вопреки греческой практике, над патриархом Иовом была совершена полная архиерейская хиротония. А после Литургии было совершено его настолование. На патриарха Иова были возложены золотая панагия и мантия и вручен посох, подаренный царем. В тот же день состоялась торжественная царская трапеза. После подачи третьего кушанья новый патриарх совершил шествие «на осляти» вокруг Кремля. Царь и бояре вели осла под уздцы. По возвращении и окончании трапезы обоим патриархам и всем греческим гостям были преподнесены дары. Так закончился первый день торжеств в Москве.
На следующий день в честь высоких гостей был устроен обед у патриарха Иова. До начала трапезы обоих патриархов пригласили в царский дворец для представления их царице. Греческие гости были восхищены роскошью ее покоев и богатством убранства. Царица Ирина выразила благодарность патриарху Иеремии за его приезд в Россию, вручила гостям богатые дары и попросила молиться о даровании ей наследника.
При встрече глав Церквей перед торжественным обедом патриарх Иеремия испросил благословения у Московского первосвятителя, на что тот сказал: «Ты мне Великий Господин и старейшина и отец, от тебя принял я благословение и поставление на Патриаршество и ныне тебе ж подобает нас благословить». Константинопольский патриарх Иеремия ответил: «Во всей подсолнечной один благочестивый царь, а впредь, что Бог изволит, здесь подобает быть Вселенскому Патриарху, а в Старом Цареграде, за наше прегрешение, вера христианская изгоняется от неверных турок». По настоянию патриарха Иова Иеремия первым благословил его, потом Иов Иеремию, и оба расцеловались.
На третий день после интронизации, 28 января, патриарх Иов принимал многочисленные поздравления и подарки от именитых людей и устроил обед для всего духовенства, участвовавшего в торжествах. После этого снова было совершено шествие на осляти вокруг Москвы. Так закончилось трехдневное празднование возведения на патриарший престол первого Русского патриарха.
После поставления патриарха Иова была составлена грамота, которая утверждала патриаршее возглавление Русской Церкви. В ней говорится о приезде в Москву Константинопольского Предстоятеля и о последовавшем затем учреждении патриаршества на Руси. При этом в уста патриарха Иеремии была вложена мысль о Москве как о третьем Риме: «Ибо древний Рим пал апполинариевою ересью; а второй Рим — Константинополь находится в обладании внуков агарянских, безбожных турок, твое же великое Российское царство, третий Рим собралось в твое единое, и ты один под небесами именуешься христианским царем во веси Вселенной у всех христиан».
Грамота Московского Собора 1589 года сообщает о двух отдельных соборных деяниях. Первое — соборное решение о поставлении Иова в патриархи, при этом Иов принимает участие в Соборе в качестве митрополита; второе — изменение церковно-административной структуры Русской Церкви, учреждение четырех митрополий: Новгородской, Казанской и Астраханской, Ростовской, Крутицкой, шести архиепископов, восьми епископий, — и в этой части святитель Иов выступает уже в качестве патриарха. Наконец, в грамоте говорится о том, что впредь поставление Русских патриархов будет совершаться Собором русского духовенства с утверждением царя и извещением Вселенского патриарха. Всех же других иерархов должен поставлять Московский патриарх.
После этого патриарх Иеремия отправился в Константинополь. На прощание царь преподнес греческим иерархам богатые дары и выразил пожелание, чтобы русское патриаршество было утверждено Собором всех Восточных патриархов и чтобы было определено положение нового патриарха в ряду других. На обратном пути Иеремия задержался в Литве, где поставил нового митрополита — Михаила (Рагозу). Возвратившись в Константинополь в 1590 году, он созвал Собор и сделал подробный доклад о деянии, совершенном им в Москве. Принятая Соборная грамота признавала святителя Иова патриархом, определяя ему пятое место после Восточных патриархов и разрешая в последующее время поставлять патриарха в Москве Собором русского духовенства. Грамоту подписали Константинопольский патриарх Иеремия, Антиохийский Иоаким, Иерусалимский Софроний и 81 иерарх. Не хватало на грамоте только подписи Александрийского патриарха. В мае 1591 года эту грамоту доставил в Москву специально посланный для этого митрополит Тырновский Дионисий.
Соборное решение Восточных патриархов не понравилось в Москве. Во-первых, недовольство вызвало предоставление Московскому Первосвятителю пятого места, то есть после Восточных патриархов. Вспоминались и слова патриарха Иеремии о Москве как о третьем Риме. Говорилось, что первое место принадлежит Вселенскому патриарху, второе место — Александрийскому, как носящему титул Папы всея Вселенныя, а третье место должно принадлежать Московскому Первосвятителю.
Кроме того, русских беспокоило отсутствие на грамоте подписи Александрийского патриарха. Новый Александрийский патриарх Мелетий был известным канонистом, и он открыто порицал патриарха Иеремию за самовольное учреждение Русского патриаршества. Он назвал его действия незаконными, а Собор 1590 года — неполным. Об этом также стало известно в Москве.
С митрополитом Тырновским Дионисием от русских царя и патриарха посылаются грамоты и богатые дары на Восток. В этих грамотах сообщается, что на Руси, несмотря на принятое Собором решение, считают Московского патриарха на третьем месте, и содержится просьба государя к Александрийскому патриарху Мелетию прислать письменное признание Русского патриарха.
В 1593 году в Константинополе состоялся Собор с участием патриархов Мелетия Александрийского и Софрония Иерусалимского. На этом Соборе было составлено восемь определений касательно церковного благочиния, духовного просвещения и римского календаря и было утверждено Русское патриаршество, учрежденное в 1589 году, с определением ему пятого места после Иерусалимской кафедры. Это решение привез в Москву присутствовавший на Соборе царский посланник дьяк Григорий Афанасьев. Принятое решение вызвало огорчение на Руси, но с ним были вынуждены смириться.
Учреждение патриаршества открывает новую эпоху в истории Русской Церкви. Впервые идею «третьего Рима» включила грамота московского Собора 1589 года, учредившего Патриархию и утвердившего тем самым на правовом, каноническом уровне статус Русской Церкви. Ранее мысль о третьем Риме высказывалась в основном лишь в литературно-публицистических сочинениях.
В контексте русской истории личность патриарха Иеремии II может быть расценена неоднозначно. Поставив в Москве патриарха Иова, который стал столпом русской государственности в Смутное время, патриарх Иеремия на обратном пути, находясь в Западно-Русской митрополии, поставил во главе ее митрополита Михаила (Рагозу), с именем которого связано принятие унии с Римом в 1596 году.
Имя первого патриарха Иова открывает ряд Предстоятелей Русской Церкви в Патриаршем достоинстве. Святейшие патриархи Смутного времени, святители Иов и Ермоген, были столпами русской государственности, их голос олицетворял национальное самосознание русскою народа, который они призывали противостоять западной экспансии. Недолгое время между ними кафедру занимал патриарх Игнатий, ставленник Лжедмитрия I.
Смута внесла сумятицу и в церковное управление. После патриарха Ермогена последовал период так называемого «междупатриаршества» (1612—1619). Но сразу после своего возвращения из польского плена митрополит Филарет Ростовский, отец первого русского царя из династии Романовых, был возведен в сан патриарха прибывшим на Русь Иерусалимским патриархом Феофаном. Патриарха Филарета сменил на кафедре соловецкий постриженик святитель Иоасаф I (1634—1640). Его недолгое правление осталось в тени знаменитого предшественника. Время патриарха Иосифа (1642—1652) органично предшествует эпохе патриарха Никона. При патриархе Иосифе активно действует кружок ревнителей благочестия, усиливается интерес к греческой культуре, интенсифицируются отношения с православным Востоком. Продолжая это направление, патриарх Никон предпринимает усилия по приведению русской богослужебной практики в соответствие с греческой. Основанные им монастыри — Новоиерусалимский, Валдайский и Крестный — представляют собою удивительное явление в русской духовной жизни. Следующий патриарх Иоасаф II также оказался в тени патриарха Никона и менее известен в историографии. Малый след в истории оставил и патриарх Питирим, возглавлявший Русскую Церковь всего около года. Завершает XVII век првление патриархов Иоакима и Адриана. При Иоакиме оппозиционное движение в Церкви организационно оформляется в форме старообрядческого раскола, с которым в Церкви ведется жесткая борьба, активней становится соборная жизнь Церкви, расширяет свою работу Московский печатный двор, в Москве создается высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия. Усилиями патриарха Иоакима было преодолено западное влияние на Руси. Последний патриарх, святитель Адриан, был учеником и последователем патриарха Иоакима, продолжая его политику, Но после кончины матери Петра I царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной в стране вновь усиливаются западные веяния, инициированные молодые государем. Постигшие патриарха недуги также приводят к ослаблению патриаршей власти. После кончины патриарха Адриана избрания нового патриарха не последовало из-за ведшихся в то время военных действий, и Местоблюстителем патриаршего престола был назначен митрополит Рязанский Стефан (Яворский). Его управление Церковью было значительно ограничено волей Петра I и явилось переходным временем к синодальному управлению Русской Церковью.
В Синодальный период в общественном сознании заметно сказываются секуляризационные процессы. Церковь становится ведомством православного исповедания в государстве.
Если историю предшествующего времени можно изучать по правлениям патриархов, то Синодальный период целесообразнее рассматривать не в соответствии с именами первенствующих членов Святейшего Синода, а в соответствии с царствованиями императоров или правлением обер-прокуроров Святейшего Синода. Только восстановление в XX веке патриаршества возродило традиционное каноническое возглавление Русской Церкви.
В святоотеческой письменности первых христианских веков первоначально термин «Патриарх» применяется к епископам вообще, (в том числе — простым). Одно из первых употреблений в собственном значении этого термина — у святителя Григория Богослова в его прощальной 42 проповеди: «Разве не старейших епископов, а лучше сказать — патриархов?». Уже на Третьем Вселенском Соборе в Эфессе (431 г.) термин «Патриарх» появляется в канонических текстах. На Четвертом Вселенском Соборе Патриархом был назван Лев Римский и, по известию Евагрия, Анатолий Константинопольский. После Четвертого Вселенского Халкидонского Собора (541 г.), этот термин становится общераспространенным.
Однако, еще после Первого Вселенского Никейского Собора (325 г.) церковная структура была подчинена административным подразделениям Римской империи. Каждая гражданская провинция по духовной линии возглавлялась митрополитом, или епископом митрополии. Более крупные адм. единицы - диоцезы-управлялись экзархами диоцезов, которые со временем и стали именоваться Патриархами. Ряд Патриархов возглавляли несколько диоцезов: епископ Рима — весь Запад империи, епископ Александрии — Египет и Ливию, епископ Константинополя (после Халкидонского Собора) — Понтийский, Азиатский и Фракийский диоцезы.
В IV веке возникают предпосылки и для создания более крупных церковных объединений, чем митрополии. Если митрополия контролировала провинцию, то более крупные территориальные объединения — диоцезы — в церковном отношении зависели от экзархов. Термин появляется в 347 г., на Сардикийском соборе (при этом — синонимичен митрополиту) однако, как реальность он существовал ранее. Существуют свидетельства, что Антиохия не только совершала наблюдение за всей Сирией уже во времена Игнатия, но в III веке вмешивалась в церковные вопросы Палестины, Аравии, Киликии, Месопотамии, Осроэны и Персии. Так в конце II в. епископ Эдессы Палут был рукоположен архиепископом Антиохийским Серапионом (193-209). Персидская Церковь с III по V в. также зависела от Антиохии.

Современное значение у титула Патриарха появляется с V века, — его получают епископы, главенствующие над митрополитами. Термин впервые встречается в документах IV Вселенского Собора — 451 г.
После Разделения 1054 года титул Патриарха закрепился преимущественно за Предстоятелями Восточной Церкви. В современном православии титул Патриарха имеют предстоятели Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской Поместных церквей.
На Руси Патриаршество было введено в 1589 году при царе Феодоре Иоанновиче, сыне Ивана IV Грозного. Первым Патриархом стал Московский митрополит Иов с 1589 по 1605 годы.

23 января 1589 года в Москве Собор с участием Константинопольского Патриарха Иеремии избрал Патриархом царствующего града Москвы в Великого Российского царствия свт. Иова. После возвращения Патриарха Иеремии в Цареград там состоялись в 1590 и 1593 гoдах Соборы с участием других восточных Патриархов, которые подтвердили постановление Московского Собора с участием Патриарха Иеремии, признали Московского Патриарха пятым по чести в диптихе после Патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского и определили его титул: «Патриарх Московский и всея России и северных стран».
На время правления первого Патриарха свт. Иова приходится и начало «смутного времени», когда Римский престол и поляки предприняли новую попытку подчинить Русь Риму. Лжедмитрий I незаконно свел с кафедры святителя в 1605 году, и менее двух лет спустя, 8 марта 1607 года, тот скончался. Лжедмитрий I незаконно возвел на Патриарший престол грека Игнатия, прежде — Кипрского Предстоятеля, который, впрочем, недолго оставался на Московской кафедре (1605—1606 гг.).

В 1606 году Патриархом всея России был избран свт. Ермоген. Еще будучи митрополитом Казанским, свт. Ермоген сподобился обрести величайшую святыню русского народа — Казанскую икону Богоматери. Он совершил открытие мощей Казанских святителей Гурия и Варсонофия. С высоты Патриаршей кафедры свт. Ермоген воодушевлял русский народ на жертвенную борьбу с чужеземными и иноверными поработителями. Поляки подвергли Патриарха заключению, но даже из застенка он отправлял одно воззвание за другим. 17 февраля 1612 года свт. Ермоген принял мученическую смерть, уморенный голодом. Через несколько месяцев Москва была освобождена, и смута окончательно завершилась воцарением в 1613 году первого Романова — Михаила Феодоровича.

В XVII в. самым известным патриархом был Патриарх Никон. С его именем связано увеличение значения личности Патриарха в государственных делах и возникновение старообрядческого раскола. Патриарх Никон, будучи другом Царя Алексея Михайловича, пользовался его неограниченным доверием и во время отъездов Царя вместо него управлял государством. За заслуги Царь почтил Никона титулом — Великого государя. Влияние Патриарха Никона на Царя было таким значительным, что впоследствии Петр I, помня пример Никона, считавшего, что «священство выше царства», и опасаясь, что власть Патриарха будет ограничивать самодержавную власть Царя, упразднил патриаршество.
Это произошло после кончины Патриарха Адриана в 1700 году, кода был оставлен только местоблюститель Патриаршего престола. В 1721 году с согласия Восточных Патриархов, которые впрочем были более разочарованны таким решением, в России был учрежден высший орган церковного управления — Святейший правительствующий Синод. Был создан и орган контроля государства за всеми церковными делами.
На протяжении XVIII-XIX веков временами звучала критика созданного Петром церковного (синодального) строя. Решительные сдвиги произошли лишь в начале ХХ века. В 1903 году вышла отдельным изданием статья известного публициста Л. А. Тихомирова «Запросы жизни и наше церковное управление», где говорилось о желательности восстановления Патриаршества и возобновления Поместных Соборов. Статья Тихомирова привлекла сочувственное внимание св. Государя Николая II.
23 сентября 1904 года в письме обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву Государь высказал «мысль о Всероссийском Церковном Соборе», признаваясь, что эта мысль «давно уже таится» в его душе. «…По многим… вопросам нашей церковной жизни обсуждение их Поместными Соборами внесло бы мир и успокоение, притом правильным историческим путем в полном соответствии с преданиями нашей Православной Церкви». Это историческое письмо Государя Николая II положило начало подготовке к Поместному Собору.

27 июля 1905 года Святейший Синод запросил мнения архиереев о желательных преобразованиях. Полученные к концу года ответы на этот запрос составили три увесистых тома. На протяжении почти всего 1906 года работало Предсоборное Присутствие- комиссия представителей духовенства и высших школ, занимавшаяся подготовкой к Собору.
До известных событий 1917 года Собор так и не состоялся, но огромная подготовительная работа значительно облегчила труды Всероссийского Поместного Собора, открытого в день Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа 1917 года.
31 октября тайным голосованием были определены три кандидата в Патриархи: архиепископы Харьковский Антоний (Храповицкий), Новгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон (Белавин). 5 ноября 1917 года путем извлечения жребия в храме Христа Спасителя Патриархом был избран Тихон. Через несколько дней, 21 ноября, состоялась интронизация Патриарха Тихона.

В первые послереволюционные годы особенно отчетливо проявилось историческое значение Собора 1917-1918 годов, принявшего решение о восстановлении Патриаршества. Личность святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, стала живым укором для тех, кто, раздувая пламя братоубийственной гражданской войны, попирая заповеди Божии и правила человеческого общежития, сея соблазн, проповедовал вседозволенность и беспощадный кровавый террор как метод государственной политики.

Безмерным всенародным горем стала смерть святителя Тихона на Благовещение 1925 года. Значение Святителя Тихона, в силу особых исторических условий, как Патриарха выходило далеко за пределы тех его формальных «прав и обязанностей», которые определил Собор 1917-1918 годов. Собор, предвидя возможность затруднений в правильном избрании следующего Патриарха, в негласном постановлении наделил свт. Тихона чрезвычайными, беспрецедентными полномочиями избрать трех преемников-Местоблюстителей с полнотой Патриарших прав. В момент смерти свт. Тихона из трех находился на свободе только ближайший помощник Патриарха митрополит Крутицкий Петр (Полянский).

Петр Федорович Полянский только в 1920 году принявший монашество, священство и епископский сан, свт. Петр уже успел побывать в трехгодичной ссылке. Собравшиеся на похороны свт. Тихона 60 архиереев по вскрытии Патриаршего завещания соборно подтвердили полномочия свт. Петра. Недолго пробыл Местоблюститель на свободе, но до самой своей мученической кончины 10 октября 1937 года он оставался живым символом единства Русской Церкви и ее стояния в вере и правде.
Предвидя насильственное удаление от дел, свт. Петр 8 декабря 1925 года за три дня до ареста составил завещание о назначении трех кандидатов в Заместители Патриаршего Местоблюстителя. После ареста свт. Петра в должность его Заместителя вступил митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), который, в свою очередь, был арестован 8 декабря 1926 года.

12 апреля 1927 года митрополита Сергия освобождают из заключения и возвращается к исполнению обязанностей Местоблюстителя Патриаршего престола. В особых исторических условиях 29 июля того же года он издает свою так называемую «Декларацию», где, в надежде на легализацию Церкви, бывшей фактически вне закона после издания Декрета «Об отделении Церкви от государства», призывает к лояльности в отношении Советской власти. «Декларация» вызвала большие споры в церковной среде. Наиболее резко о таком шаге Местоблюстителя высказывались русские иерархи оказавшиеся в эмиграции.

Гонения тем временем только усиливались, их кульминацией стали страшные 1937-1938 годы, и лишь в 1939 году пошли на спад. Великая Отечественная война, принесшая русскому народу неисчислимые жертвы и страдания. Осознавая, что Церковь есть неотъемлемая часть русского самосознания, власть идет на фактическое восстановление Русской Церкви. Знаком возвращения Церкви к нормальной жизни явилось восстановление Патриаршества. Митрополит Сергий, с 1934 года имевший титул Блаженства, с 1937 года имевший звание Местоблюстителя, 12 сентября 1943 года избирается Патриархом Московским и всея Руси.

Уже престарелый и больной Патриарх Сергий управлял Церковью до 15 мая 1944 года. Согласно его завещанию, местоблюстителем Патриаршего престола был назначен митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) (такое назначение допускал Собор 1917—1918 гг. в чрезвычайных обстоятельствах).
4 февраля 1945 года завершил свою работу Поместный Собор Русской Православной Церкви, который был созван в связи с кончиной Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского). Собор должен был избрать нового Предстоятеля и зафиксировать существенные позитивные изменения в жизни Церкви. Согласно единогласному решению архиереев, новым Патриархом был избран — Алексий (Симанский). Всего в Соборе, заседавшем в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках с 31 января по 2 февраля 1945 года, приняло участие 46 архиереев, 87 клириков и 38 мирян.

Интронизация Патриарха Алексия состоялась 4 февраля 1945 г. в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Организации и проведению Поместного собора Русской Православной Церкви придавалось особое историческое значение, поэтому для фотосъемок был приглашен известный фотокорреспондент «Известий» Георгий Петрусов — тот самый, который в мае 1945 года будет снимать «Подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии».

Патриаршество Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия - это целая эпоха с 4 февраля 1945 года - 17 апреля 1970 года. Первые 10 с небольшим лет этого Патриаршества были наполнены созидательной работой по возрождению приходов, монастырей и духовных школ, которой внимательно и мудро руководил Святейший Патриарх. Но затем начались «хрущевские» гонения, когда вновь закрывали храмы, десятки монастыри и семинарии.
25 лет Патриаршего служения Первосвятителя Алексия были довольно разными, но цель, которой отдавал Предстоятель все силы, всегда была одна: сохранить Церковь в условиях советского атеистического строя.

Постепенным возрождением Церкви отмечено Патриаршество Святейшего Пимена (3 июня 1971 - 3 мая 1990). В 1927 году, 17 лет от роду, он принял монашество с именем Пимен - в честь древнего христианского подвижника египетской пустыни прп. Пимена Великого (имя Пимен означает «пастырь»). Всю последующую жизнь монах Пимен старался быть не просто пастырем, но пастырем добрым, который полагает душу свою за овец своих.
В годы Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Пимена Россия переживала время решительных исторических перемен. Русская Православная Церковь не могла оставаться в стороне от свершающихся судеб русского народа. В Предъюбилейном послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода к 1000-летию Крещения Руси говорится: «Каждый из нас, чад церковных, ныне призван своим гражданским и религиозным долгом ревностно участвовать в развитии и совершенствовании нашего общества. Нас воодушевляет процесс укрепления духовных и нравственных основ в личной, семейной и общественной жизни нашего народа, стремление нашей страны укрепить общечеловеческие нравственные нормы в международных отношениях». В июне 1988 г. Святейший Патриарх Пимен возглавил торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси, и Поместный Собор Русской Православной Церкви.

7 июня 1990 года был избран, а 10 июня возведен на Патриарший престол Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Первосвятитель родился 23 февраля 1929 года за пределами СССР и возрастал под влиянием традиционной церковной среды, которой не коснулись гонения. 3 сентября 1961 года будущий Патриарх был хиротонисан во епископа Таллинского и более 30 лет управлял своей родной епархией, выполняя и другие церковные служения: Управляющего делами Московской Патриархии, а с 1986 года - митрополита Ленинградского и Новгородского. Под руководством Святейшего Патриарха Алексия II произошло всестороннее возрождение церковной жизни: число приходов, монастырей, духовных школ и епархий увеличилось в несколько раз. Поучили развитие новые, немыслимые в годы государственного атеизма формы миссионерской и социальной церковной деятельности. Великим событием в истории нашей Церкви было прославление Собором 2000 года сонма Новомучеников и Исповедников Российских. Водимая благодатью Божией, хранящая сокровища веры и подвига всех предшествующих поколений, Церковь неустанно осуществляет свою спасительную миссию.
Поместный Собор Русской православной церкви 27-29 января 2009 года выберет патриарха Московского и всея Руси. Выборы пройдут в связи с кончиной 5 декабря 2008 года патриарха Алексия Второго.
Патриарх Московский и всея Руси - титул предстоятеля Русской православной церкви.
Патриаршество было учреждено в Москве в 1589 году. До этого времени Русская Церковь возглавлялась митрополитами и до середины XV века относилась к Константинопольскому Патриархату и не имела самостоятельного управления.
Патриаршее достоинство московским митрополитам было усвоено лично Вселенским Патриархом Иеремией II и подтверждено Соборами в Константинополе в 1590 и 1593 годах. Первым патриархом стал святитель Иов (1589-1605).
В 1721 году патриаршество было упразднено. В 1721 году Петр I учредил Духовную коллегию, впоследствии переименованную в Святейший Правительствующий Синод - государственный орган высшей церковной власти в Российской церкви. Патриаршество было восстановлено решением Всероссийского Поместного Собора 28 октября (11 ноября) 1917 года.
Титул "Святейший Патриарх Московский и всея Руси" принят в 1943 году патриархом Сергием по предложению Иосифа Сталина. До этого времени патриарх носил титул "Московский и всея России". Замена России на Русь в титуле патриарха связана с тем, что с возникновением СССР под Россией официально подразумевалась только РСФСР, в то время как юрисдикция Московской патриархии простиралась и на территорию прочих республик Союза.
Согласно Уставу Русской православной церкви, принятому в 2000 году, Святейший Патриарх Московский и всея Руси "имеет первенство чести среди епископата Русской православной церкви и подотчетен Поместному и Архиерейскому соборам... имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской православной церкви и управляет ею совместно со Священным Синодом, являясь его председателем".
Патриарх созывает Архиерейские и Поместные соборы и председательствует на них, а также несет ответственность за исполнение их постановлений. Патриарх представляет Церковь во внешних сношениях, как с другими церквями, так и со светской властью. В его обязанности входит поддержание единства иерархии РПЦ, издание (совместно с Синодом) указов об избрании и назначении епархиальных архиереев, он осуществляет контроль за деятельностью архиереев.
Согласно уставу, "внешними отличительными знаками патриаршего достоинства являются белый куколь, зеленая мантия, две панагии, великий параман и предносной крест".
Патриарх Московский и всея Руси - епархиальный архиерей Московской епархии, состоящей из города Москвы и Московской области, Священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры, управляет патриаршими подворьями по всей стране, а также так называемыми ставропигиальными монастырями, подчиненными не местным архиереям, а напрямую Московской Патриархии.
В Русской Церкви титул Патриарха дается пожизненно, и это означает, что до самой смерти патриарх обязан служить Церкви, даже если он тяжело болен или находится в ссылке или заточении.
Хронологический список Патриархов Московских:
Игнатий (30 июня 1605 года - май 1606 года), поставлен Лжедмитрием I при живом Патриархе Иове и поэтому не включается в списки законных Патриархов, хотя поставлен с соблюдением всех формальностей.
Священномученик Гермоген (или Ермоген) (3 июня 1606 года - 17 февраля 1612 года), причислен к лику святых в 1913 году.
После кончины патриарха Адриана преемник не избирался. В 1700-1721 годах блюститель патриаршего престола ("Экзарх") - митрополит Ярославский Стефан (Яворский).
Московские патриархи в 1917-2008 годах:
Святитель Тихон (Василий Иванович Белавин; по другим данным Беллавин, 5 (18) ноября 1917 года - 25 марта (7 апреля) 1925 года).
Из книги историка русской церкви Антона Карташева (1875-1960) «Очерки по истории церкви в 3 ч. Ч. 2», отрывок из главы «Учреждение патриаршества».
Вопрос о патриаршестве буквально вспыхнул в Москве, как только получилась весть, что на границе Руси появился патриарх Антиохийский Иоаким, который, как мы знаем, проехал через Львов и Западную Русь в самый важный момент ее жизни, накануне печальной памяти Брестского собора, и вовлечен был в активные действия на защиту православия. Появление восточного патриарха на русской почве являлось небывалым фактом за всю историю русской церкви.
У москвичей поднялось и чувство привычного почтения к своим отцам по вере, наследникам славы древней церкви, и жажда показать свое благочестие и блеск царства. Возник вместе и прямой расчет сделать большое дело - начать переговоры об учреждении патриаршества. К этому они и приступили.
Антон КарташевВстреча патриарха была пышной в отличие от «никакой» в Польше и Зап. Руси. Уже это одно не могло не льстить восточным патриархам и не радовать их. По приказу из Москвы, смоленскому воеводе велено было встречать патриарха «честно», доставить ему все удобства, продовольствие, и с почетной охраной сопровождать до Москвы. 6-го июня 1586 г. патриарх Иоаким прибыл в Смоленск и оттуда препроводил свое письмо к царю Федору Ивановичу. Этот патриарх уже писал прежде Ивану IV и получил от него 200 золотых. Письмо патр. Иоакима было полно византийских, т. е. неумеренных похвал московскому царю: «если кто виде небо и небо небеси и вси звезды, аще солнца не виде, ничтоже виде, но егда видит солнце, возрадуется зело и прославит сотворшаго и. Солнце же наше правоверных хрестьян в днешние дни, - ваша царьская милость едино межи нами есть». Исходя из этого, московский царь легко мог ставить вопрос: пора же наконец «солнцу правоверных христиан» иметь возле себя и патриарха?
Навстречу гостю высылались царем почетные послы, в Можайск, в Дорогомилово. 17-го VI патр. Иоаким въехал в Москву и помещен на Никольском крестце в доме Шереметева.
25.VI был парадный прием патриарха у царя Федора Ивановича. Но характерно - митр. Дионисий ни визита, ни привета патриарху не делал. Этого не могло быть без соглашения со светской властью. Митрополит явно хотел дать почувствовать восточному просителю милостыни, что он - русский митрополит, такой же автокефальный глава своей церкви, как и патр. Антиохийский, но только глава церкви большей, свободной и сильной, - а потому патриарху следовало бы первому идти к нему на поклон. А так как патриарх хочет обойти это поклонами царю, то и митрополит русский первый «шапки не ломает».
Патриарха по почетному обычаю везли во дворец в царских санях (хотя было и лето) - волоком. Царь принял его в «Подписной Золотой Палате», сидя на троне, в царском облачении, среди разодетых бояр и чинов по чину принятия послов. Царь встал и отошел на сажень от трона для встречи. Патриарх благословил царя и вручил ему в дар мощи разных святых. Тут же передал царю рекомендательное письмо, врученное ему КПльским патриархом Феолиптом вместе с Александрийским патриархом Сильвестром, о помощи Иоакиму в покрытии долга Антиохийской кафедры в 8.000 золотых.
Царь пригласил патриарха к себе на обед в тот же день! Очень большая честь по Московскому чину. А пока указано было патриарху идти в Успенский собор на встречу с митрополитом. Это было преднамеренно, чтобы подавить гостя официальной помпой и блеском и явить русского святителя «на кафедре», окруженного бесчисленным сонмом духовенства, в золотых парчевых ризах с жемчугами, среди икон и рак, обложенных золотом и драгоценными камнями. Бедный титулованный гость должен был почувствовать свою малость пред настоящим главой реально (а не номинально) великой церкви. Патриарха встретила почетная встреча в южных дверях. Провели его приложиться к иконам и мощам. А в это время митрополит Дионисий с духовенством стоял посреди храма на кафедре, готовый начать литургию. Подобно царю, по церемониалу, он сошел с кафедры на сажень навстречу патриарху и поспешил первый благословить патриарха. Оторопевший патриарх, хорошо поняв нанесенную ему обиду, тут же через переводчика заявил, что так не следовало бы поступать, но увидел, что никто его не хочет слушать, что не место и не время спорить, и замолчал. Как говорит документ «слегка поговорил, что пригоже было митрополиту от него благословение принять наперед, да и перестал о том». Патриарх прослушал литургию, стоя без облачения у заднего столпа собора. Царский обед после обедни и царские подарки были только золочением пилюли для огорченного патриарха. Фигура русского митрополита, блеснувшая пред патриархом, как олимпийское величие, опять скрылась от него, и он должен был почувствовать, что спорить против высоты русского митрополита не придется. А царю за подарки надо отплатить. Так московские дипломаты создали «атмосферу» для вопроса о русском патриаршестве. И все дело повела светская власть. К ней тянулись патриархи, от нее ждали милостей и получали. С ней обязаны были и расплачиваться. Русская иерархия была избавлена от риска умалиться и попасть в положение смиренных просителей. Она ничего не просила. Она как бы все имела. И восточные иерархи должны были сами восчувствовать свой долг перед ней и дать ей подобающий титул патриарха.
Непосредственно за этим днем начались переговоры царской власти с патриархом Иоакимом о патриаршестве. Велись они тайно, т. е. без писанных документов, может быть из опасения, чтобы польская власть как-нибудь не выступила пред КПльским патриархом против этого. В Боярской Думе царь держал речь, что он после тайного сговора с супругой своей Ириной, с своим «шуринам, ближним боярином и конюшим и воеводой дворовым и наместником Казанским и Астраханским, Борисом Федоровичем Годуновым», решил поставить следующий вопрос: «Изначала, от прародителей наших, киевских, владимирских и московских государей - царей и великих князей благочестивых, поставлялись наши богомольцы митрополиты киевские, владимирские, московские и всея России, от патриархов царяградских и вселенских. Потом милостию всемогущего Бога и пречистыя Богородицы, Заступницы нашей, и молитвами великих чудотворцев всего российского царства, а за прошением и молением наших прародителей, благочестивых царей и великих князей московских, и по совету патриархов цареградских (?) начали поставляться особо митрополиты в московском государстве, по приговору и по избранию прародителей наших и всего освященного собора, от архиепископов российского царства даже и до нашего царствия. Ныне по великой и неизреченной своей милости, Бог даровал нам видеть пришествие к себе великого патриарха Антиохийского; и мы воссылаем за сие славу Господу. А нам бы испросить еще у Него милости, дабы устроил в нашем государстве московском российского патриарха, и посоветывать бы о том с святейшим патриархом Иоакимом, и приказать бы с ним о благословении патриаршества московского, ко всем патриархам». Для переговоров к патриарху был послан Борис Годунов.
В «Сборнике Синодской Библиотеки» речи Бориса Годунова патриарху Иоакиму и его ответы переданы следующим образом. Годунов предлагает Иоакиму: «ты бы о том посоветовал с преосвященным святейшим вселенским патриархом цареградским, а пресвятейший бы патриарх посоветовал о таком великом деле с вами со всеми патриархи… и со архиепископы и епископы и со архимандриты и со игумены и со всем освященным собором. Да и во святую бы гору, и в синайскую о том обослалися, чтобы дал Бог такое великое дело в нашем российском государстве устроилося ко благочестию веры христианския, а помысля бы о том нам объявили как тому делу пригоже состоятися». Патриарх Иоаким, по изложению этого документа, благодарил от себя и от других патриархов царя московского за все милостыни, за которые восточные церкви молятся о нем, признал, что в России учредить патриаршество «пригоже», обещал посоветоваться с остальными патриархами: «то дело великое, всего собора, а мне без этого совета учинить то дело невозможно ».
Странно звучат последние слова. Все почти официальные документы об этом деле тенденциозны. И тут мы невольно чуем скрытое предложение москвичей Иоакиму (м. б. с обещанием уплатить искомые им 8.000 золотых), не откладывая в долгий ящик, самому поставить патриарха, а задним числом искать потом подтверждения.
Переговоры кончились быстро. Иоаким что-то получил и обещал содействовать делу среди своих восточных собратий.
Патриарху позволено было посетить монастыри Чудов и Троице-Сергиевский, где он и был с почетом и подарками принимаем 4 и 8 июля.
17-го июля опять почетно был принят на прощанье царем в золотой палате. Царь здесь заявил о своей милостыне патриарху и просил молитв. О патриаршестве не было ни слова. Это еще не было предметом гласности. Отсюда гостей направили в Благовещенский и Архангельский соборы для напутственных молебнов. Но в кафедральный Успенский собор и к митр. Дионисию патриарх не заходил и никакого прощания с митрополитом у него не было. Обида Иоакима вполне понятна. Но упорное неглижирование Дионисием патриарха не до конца нам понятно. Приходится прибегать к гипотезам. Может быть, просто по разведке в дороге еще в Москву (в Литве или уже в пределах России) оказалось, что патриарх Иоаким о московских митрополитах (в отличие от Киевских-Литовских) выражался, как о самовольно автокефальных и не к пользе церкви независимых от греков. Вот Дионисий, с дозволения царя, и учинил такую демонстрацию зазнавшемуся греку. В Москве умели распределять дипломатические роли…
А может быть «пересол» в дипломатии митр. Дионисия принадлежал ему лично, а не царской политике и даже вопреки ей. Политика велась Борисом Годуновым. Дионисий принадлежал к партии противников Годунова. Последний имел своего любимца среди иерархии для замены Дионисия, Старицкого игумена Иова, которого и метил в кандидаты на патриаршество. Дионисий мог подозревать, что интригующий Борис, ради своего любимца, согласится пред греками на какую-нибудь тень зависимости от них, ради приобретения пышного патриаршего титула. Отсюда резкая демонстрация Дионисия ради сохранения совершенной автокефалии и достоинства русской церкви. В следующем 1587 г. митр. Дионисий и архп. Крутицкий Варлаам, как открытые противники Бориса, были свергнуты последним, и на место Дионисия был поставлен митрополитом избранник Бориса - Иов.
1-го августа патриарх с почетным эскортом выехал на Чернигов. Для «подталкивания» московского плана вместе с патриархом Иоакимом послан был подъячий Михаил Огарков (желавший по пути выкупить из турецкого плена своего сына).
Огарков повез богатые денежные и вещевые дары патриархам КПльскому и Александрийскому.
В КПле претензия русских могла вызвать только отрицательную реакцию. Подымалась старая и горькая для греков история с возникновением патриархатов болгарского и сербского. Восток прибег к тактике отмалчивания и проволочки. Целый год не было отклика. Но КПль, предвидя необходимость уступки русским, решил по крайней мере их хорошо проэксплуатировать. В этот год десятки восточных митрополитов, архиепископов, игуменов, иеромонахов, монахов потоком пошли через Чернигов и Смоленск в Москву за милостыней.
Если вам нравится наша работа - поддержите нас:
Карта Сбербанка : 4276 1600 2495 4340
Или с помощью этой формы, вписав любую сумму: